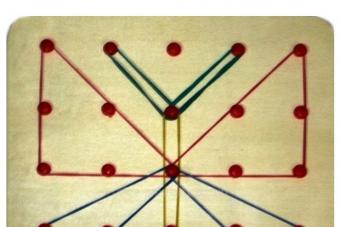Со словом «память», как правило, ассоциируется чисто внутреннее явление, локализованное в мозгу индивида, - считается, что данный феномен, подлежит ведению физиологии мозга, неврологии и психологии, а не исторической культурологии. Однако, содержательное наполнение памяти, организация её содержаний, сроки, которые в ней может сохраняться то или другое, - всё это определяется в очень большой степени не внутренней вместимостью и контролем, а внешними, то есть социальными и культурными рамками. На это первым настоятельно указал Морис Хальбвакс .
В качестве центрального тезиса всех работ Хальбвакса можно выделить социальную обусловленность памяти. Индивид, воспитание и становление которого происходило в полном одиночестве, не имел бы памяти - таков его тезис. Впрочем, так отчётливо эта мысль так и не была сформулирована исследователем. Память, по убеждению Хальбвакса, может возникнуть у человека лишь в процессе его социализации. И, несмотря на то, что «обладает» памятью всегда отдельный человек, формируется она коллективом. Потому понятие «коллективная память» нельзя отнести к разряду метафор. Коллективы никогда не «обладают» памятью непосредственно, но обуславливают память своих членов .
Каждый из нас может для себя отметить, что даже самые личные воспоминания возникают в подавляющем большинстве (мы не учитываем здесь душевные заболевания отдельных индивидов) через общение. В памяти мы храним не только собственный опыт, но и опыт окружающих, которым они делятся с нами тем или иным образом.
Таким образом, наиболее удобной теорией, как для объяснения запоминания, так и для объяснения забвения, является следующее: Субъектом памяти и воспоминания всегда остаётся отдельный человек, но он зависим от «рамок», организующих его память . Здесь Ян Ассман несколько не согласен с Хальбваксом, который объявил коллектив субъектом памяти и воспоминания и создал такие понятия, как «групповая память» и «память нации». Однако оба учёных сходятся во мнении, что мы помним только то, что можем сообщить и для чего можно найти место в рамках коллективной памяти .
То есть, с прекращением реконструкций прошлого в настоящем, будь то обряды или обычаи, наступает забвение как для индивида, так и для коллектива, любой более не актуальной, не поддерживаемой в памяти, информации. Верность данного суждения подтверждает народная мудрость, прошедшая через годы, не теряя своей актуальности: «Человек жив, пока о нём помнят».
Отличия индивидуальной и коллективной памяти весьма принципиальны для Хальбвакса, так как память индивида, хоть и обусловлена социальными рамками, всегда остаётся уникальной в каждом случае комбинации различных коллективных воспоминаний, связанных с различными группами, членами которых мы являемся.
Также, Морис Хальбвакс и Ян Ассман сходятся в том, что коллективная память для своего функционирования и сохранения нуждается в неких «образах» или «фигурах воспоминания» . «Та или иная истина, чтобы закрепиться в памяти группы, должна предстать в конкретной форме какого-либо события, лица или места» . В свою очередь, для сохранения в памяти группы, каждая попадающая туда фигура непременно должна обогатиться смыслом, влиться в идейную систему данного общества. Специфичными признаками фигур воспоминания являются:
+ отнесённость к пространству и времени - то есть наличие конкретности в привязке события или личности к определённому месту и времени;
+ отнесённость к группе - есть ни что иное, как идентификационная конкретность, отношение исключительно к точке зрения реальной, живой группы;
+ воссоздающий характер - конкретная необходимость фигур, хранящихся в памяти, в возможности воссоздания и реорганизации в соответствии со сменяющимися контекстными рамками настоящего.
Таким образом, мы видим, что для того, чтобы попасть в зону памяти, любая информация должна преодолеть несколько фильтров. Эти, своего рода, барьеры были установлены не просто так - они выполняют крайне важную, защитную функцию. Суть защитной функции видится в том, чтобы регулировать интенсивность и глубину изменений внутри группы, которые вполне способны разорвать связь коллектива с его традициями, коренным образом повлиять на его будущее и даже привести к его уничтожению, потере своей групповой идентичности. Ведь коллективная память способна действовать в обоих направлениях: как назад, так и вперёд. Память не только воссоздаёт прошлое, она также организует переживание настоящего и будущего .
Ещё одним ключевым моментом в теории Мориса Хальбвакса было противопоставление памяти и истории. На первый взгляд может показаться, что подобные утверждения не имеют смысла, ведь и память и история призваны сохранить и передать потомкам то, чем жили их предки: мировоззрение, традиции. Однако, философ довольно убедительно обосновывает свою точку зрения.
По мнению Хальбвакса, коллективная память замечает лишь сходство и преемственность, в то время, как история устремляет свой взор в абсолютно противоположном направлении и полностью акцентирует внимание на различиях и разрывах преемственности .
Философ отмечал, что в то время как коллективная память затушёвывает любые изменения, стремясь представить группе такой образ её собственного прошлого, чтобы она на всех стадиях могла себя узнать, история, представляет каждый отрезок времени без изменений, как «пустой».
В то же время групповая память всячески старается подчеркнуть отличие своей истории от множества историй других групп, тем самым обосновывая собственную уникальность. А история организует свои факты таким образом, что становится ясно: нет ничего уникального, всё сравнимо со всем и всё в равной степени значимо.
И всё же отношение памяти и истории обозначается Хальбваксом не столько и не только как противопоставление, но и как отношение последовательности. «История начинается, как правило, только в той точке, где кончается традиция и распадается социальная память» . Получается, что для того, чтобы беспристрастно установить общую картину и последовательность фактов, истории необходимо выждать до того момента, когда старые группы с их мыслями и памятью, их влиянием, исчезнут. Между памятью и историей встраивается своего рода временной буфер, сквозь который далеко не каждое воспоминание проходит, а те, что проходят – в той или иной мере преобразовываются и объединяются в общие, объективные исторические пласты.
Следует также отметить, что Хальбвакс видит различия как между историей и памятью, так и между памятью и традицией, считая традицию не одной из форм воспоминания, но его переоформлением. В данном вопросе, кстати, Ян Ассман не согласен с Морисом Хальбваксом, разделяя коллективную память на «культурную» и «коммуникативную».
Подводя итог, можно выделить основные тезисы теории Хальбвакса:
+ память социально обусловлена, она является коллективным феноменом,
+ память индивида и коллективная память – принципиально различные понятия,
+ «фигуры воспоминания» – важные компоненты функционирования и сохранения коллективной памяти,
+ коллективная память действует в двух направлениях: воссоздание прошлого и переживание настоящего и будущего,
+ коллективная память противостоит истории и традиции, являясь для первой предшественником и «субъективным оппонентом», а для второй - фундаментом для развития.
Вклад Мориса Хальбвакса, бесспорно, важен, не смотря на некоторое отсутствие понятийной чёткости, которая крайне необходима его последователям для развития его идей. Также, вопреки многократным упрёкам в применении понятия памяти к явлениям социальной психологии, ему всё же удаётся выйти за рамки индивидуально-психологического, узкого понимания памяти и показать, что прошлое не вырастает естественным путем, а является продуктом культурного творчества .
(грант 12-36-01024) «Образы коллективной памяти о переломных событиях российской истории у представителей различных поколений россиян»
УДК 159.9.316.6
Emelianova T. P. Collective Memory in Context of Everyday Political Consciousness
Аннотация ◊ Анализируются традиции изучения феномена коллективной памяти в рамках французской социологической школы, психоанализа, социологии сознания, психологии социального познания, а также социального конструкционизма. Приводятся результаты исследований различных аспектов коллективной памяти в отечественной и зарубежной науке.
Ключевые слова : коллективная память, политические события, коллективные представления, психология социального познания, социальный конструкционизм, политическое сознание.
Abstract ◊ The article analyzes various traditions of the studies on the phenomenon of collective memory in the context of the French sociological school, psychoanalysis, consciousness sociology, the psychology of social cognition, and social constructionism. The results of the investigations into different aspects of collective memory in the Russian and foreign academic school are listed.
Keywords : collective memory, political events, collective representations, social cognition, social constructionism, political consciousness.
1. Истоки возникновения понятия «коллективная память»
Изучая исторически сложившиеся социальные общности, антропологи и социологи обнаружили, что их целостность существенным образом зависит от надежности функционирования системы социального управления. В свою очередь эта надежность достигается путем формирования определенного аппарата, с помощью которого фиксируется, хранится и передается социально значимая информация. Целостность и устойчивость социальных связей, таким образом, оказывается связанной с характером и особенностями организации того аппарата, который является основой памяти общества.
Наличие особого способа хранения опыта осознавалось давно. В частности, у Платона можно найти упоминание о некоем хранилище знаний, непознанной социальной действительности, скрытой от человека. Идея о существовании надличностного механизма хранения социально значимой информации, являющегося необходимым условием развития общества и индивида, прослеживается в работах многих современных историков, психологов и социологов. Наличие в обществе специфической системы хранения социально значимой информации отмечается и в исторических исследованиях. Французский историк М. Блок, в частности, выделил роль коллективной памяти, которая, по его мнению, определила в значительной мере характер воззрений людей эпохи Средневековья. В формировании такого взгляда сыграл традиционный для историков подход к памятникам прошлых эпох, особенно письменным. Любой фрагмент текста, а тем более цельное произведение, историк рассматривает, прежде всего, как отражение коллективного человеческого опыта и знаний. В результате складывается специфический взгляд на письменные исторические источники, в особенности на различные хроники, летописи, жизнеописания. Историк средневековья часто видит в них продукт деятельности некоего коллективного субъекта и относится к ним именно с таких позиций.
Развертывание исследований социальной обусловленности познания привело к появлению в философской литературе целого ряда понятий, в которых фиксируется наличие в обществе сформировавшейся в процессе социального развития системы хранения, переработки и выдачи информации, обеспечивающей процесс расширенного воспроизводства материальной и духовной культуры и всего общества в целом. Кроме термина «коллективная память» в таком же или близком значении в исторической науке используется понятие «социальная память», а также термины «историческая память», «социально-историческая память», «память мира», «внешняя память», «надындивидуальная система информации», «внегенетическая система социального наследования» и другие. Помимо отмеченного общего смысла в них отмечается та или иная особенность каждой из систем хранения информации и проявляются какие-то черты применяемой их авторами методологии (Колеватов, 1984: 40).
Э. В. Соколов, рассматривая проблему «исторической памяти», отмечает, что требуются специальные усилия для того, чтобы результаты познавательной деятельности и обмена информацией были систематизированы, включены в общую систему знаний и стали доступны для последующего использования. Подчеркивается целенаправленность формирования исторической памяти. Сама система хранения и передачи информации в обществе выступает как продукт специализированной деятельности человека (Соколов, 1972). В еще более узком смысле использует это понятие В. Б. Устьянцев, обозначая данным термином совокупность исторических источников, преимущественно письменных.
Говоря о «внешней памяти» А. А. Малиновский видит причину ее возникновения в необходимости для общества преемственности знания с сохранением информации из поколения в поколение. На первых этапах развития общества она была заключена в орудиях труда, в предметном мире. В дальнейшем начали развиваться знаковые системы, передававшие то или иное знание в виде отдельных символов, а затем и в виде прямых записей, цифр и других все более распространявшихся форм фиксации знания (Малиновский, 1977).
Таким образом, несмотря на различия в терминах, все приведенные явления описываются, прежде всего, как хранилища традиций, опыта, научных знаний, искусства. Например, указываются материальные средства и социальные институты, обеспечивающие сохранение текстов разного рода, картин, фильмов и тому подобного, а также способы их тиражирования, сохранения и распространения (музеи, библиотеки, средства массовых коммуникаций и т. д.).
2. Коллективная память в работах Э. Дюркгейма и М. Хальбвакса
В статье «Представления индивидуальные и представления коллективные» Э. Дюркгейм освещает проблему коллективной памяти с положения о том, что «психическая жизнь есть непрерывное течение представлений, что никогда невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое» (Дюркгейм, 1995: 219). По его мнению, память не является фактом чисто физическим, так как представления способны сохраняться во времени. Разрыва между состояниями человека в прошлом и в настоящем нет, они воздействуют друг на друга, и результат этого взаимного воздействия может в определенных условиях достаточно усиливать интенсивность прошлых состояний так, чтобы они вновь осознавались. «При этом представления всегда воздействуют на психику человека, - пишет Дюркгейм, - однако связь между прошлым и настоящим может устанавливаться и с помощью чисто интеллектуальных посредников» (там же: 224).
Социальные факты у Дюркгейма также являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, а субстратом их являются «ассоциированные индивиды». «Представления, образующие ткань этой жизни, выделяются из отношений, которые устанавливаются между определенным образом соединенными индивидами, или между вторичными группами, располагающимися между индивидом и обществом в целом» (там же: 233). То есть коллективные представления, порожденные действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не вытекают из последних. Сумма индивидуальных памятей индивидов не есть коллективная память, структура последней организована существенно сложнее. При этом «личные чувства становятся социальными, комбинируясь под воздействием сил, которые развивает ассоциация; вследствие этих комбинаций и проистекающих из них взаимообусловленных изменений, эти чувства становятся другими явлениями» (там же: 234).
Коллективная жизнь, целиком располагаясь в коллективном субстрате, посредством которого она связана с остальной частью мира, тем не менее, не растворяется в этом субстрате, отмечает Э. Дюркгейм. Коллективные представления, по его мнению, также как индивидуальные способны притягиваться, отталкиваться, образовывать между собой различного рода связи, которые определяются их естественными близкими свойствами. Так эволюционирует религия, мифы, легенды.
Таким образом, основная задача, которую ставил Дюркгейм, подчеркивая принципиально иную основу коллективных представлений в отличие от представлений индивидуальных, заключалась в том, чтобы выделить коллективные представления, в которых, по его мнению, как бы сконцентрировалась своеобразная умственная жизнь, бесконечно более богатая и более сложная, чем умственная жизнь индивида. Индивид вынужден использовать коллективные представления, совокупность же таких коллективных представлений - «коллективное сознание» - обусловливая содержание сознания индивида, выступает как основа его мышления и действия. Известно мнение Дюркгейма о том, что категории коллективной памяти имеют религиозное происхождение.
Объектом рефлексии феномен коллективной памяти становится сравнительно поздно, в период общества модерна. Сохранение прошлого, в традиционном обществе задаваемое самим его укладом, в обществе модерна становится специальной задачей, тесно связанной с тем, что ценность прошлого, культуры, традиции резко повышается по мере того, как они становятся источником легитимации тех или иных социальных групп.
Понятие коллективной памяти упрочилось во французской социологической школе благодаря работам М. Хальбвакса, который сделал коллективную память объектом социологического исследования. Согласно его взглядам, память как доступ к реальностям прошлого весьма ненадежна, но, тем не менее, она образует основу социального порядка (Halbwachs, 1950). Автор показывает, что ни одно общество не могло бы жить без коллективного фонда воспоминаний, ибо религия и семья, профессиональные организации и социальные институты удерживаются вместе ничем иным, как коллективными воспоминаниями. Будучи последователем Э. Дюркгейма, Хальбвакс утверждал, что задача социолога - вносить вклад в общественную солидарность посредством изучения источников социального сцепления, социальной связи.
Характеризуя коллективную память в качестве социального феномена, Хальбвакс подчеркивает ее избирательность. Личные воспоминания склонны к исчезновению в случае, если они не повторяются, не вызываются в памяти вновь и вновь. Вероятность их повторения зависит от того, наделяли ли их коллективной функцией «социальной рамки памяти». Так, автобиографические воспоминания могут выжить лишь в случае, если они отвечают каким-то институциональным нуждам. Но, по Хальбваксу, те воспоминания, которые стали достоянием коллективного сознания, вовсе не могут считаться ненадежными в том, как они изображают события прошлого. Скорее дело заключается в том, что некоторые события, переработанные коллективной памятью, приобретают своего рода вечное значение, и в силу этого вспоминаются чаще и дольше по сравнению с огромными массами происшествий, которые обречены на забвение, а отчасти и за счет этого забвения. Иначе говоря, Хальбвакс допускал, что коллективное запоминание и забвение зависят друг от друга и взаимно друг друга конституируют.
В основании размышлений Хальбвакса лежала не проблема фактичности прошлого, которую он, будучи представителем французской социологической школы, под вопрос не ставил, но скорее его интерес к привилегированному статусу особых моментов прошлого. Он показывает, что ключевые моменты христианского календаря связаны с памятью об исторической фигуре Иисуса Христа. В связи с этим он задается вопросом, как объяснить, что христианская религия, полностью ориентированная на прошлое, как и все религии, может, тем не менее, существовать в качестве института постоянного, заявляя о своем вневременном статусе, и что христианские истины могут быть и историческими, и вечными. Социолог предполагает, что ощущение вечности, связанное с памятью о Христе, возникает в силу различий в рамках осознания времени, в силу изоляции религиозной памяти от общего потока постоянно меняющегося человеческого опыта.
Второй важный пункт теории Хальбвакса состоит в интерпретации функционирования механизма коллективной памяти: превращая то или иное событие в источник нравственной рефлексии, в средоточие нравственных уроков будущим поколениям, отрицая саму возможность сопоставления данного события с любыми другими историческими происшествиями, коллективная память наделяет это событие статусом позитивности и сакральности. Феномен коллективной памяти сближает между собой профессиональное и массовое историческое сознание, поскольку, как бы ни были аполитично настроены профессиональные историки, их первоначальный интерес к истории возникает в результате контакта с коллективными воспоминаниями. Посредством коллективной памяти возникает эмоциональная вовлеченность в прошлое. Так, культивируемое почти в каждом социуме широкое знакомство детей с такими компонентами коллективной памяти как памятные места, религиозные ритуалы, фольклор, семейное древо, призвано будить в них чувство исторической укорененности, уважения к прошлому. Из эмпатии происходит любопытство, стремление узнать о тех или иных исторических фигурах, событиях, и это любопытство становится основанием индивидуального интереса к истории. Усилению интереса к коллективной памяти может способствовать сосуществование в социуме взаимоисключающих картин недавнего прошлого, рисуемых этническими или социальными группами. Реальность прошлого, проявляющаяся в индивидуальной памяти, не просто копия доступных описаний. Она часто возникает внутри более или менее широких общностей и групп, объединенных памятью о тех или иных событиях.
Особую проблему составляет тот компонент коллективной памяти, который связан с осмыслением недавнего прошлого. В этой связи Хальбваксом описан синдром «запаздывающей памяти», состоящий в том, что крупные исторические события, сильно травмирующие историческое сознание, подвергаются относительному забвению или вытеснению в течение 15 лет. Именно потому, что они связаны с ближайшим прошлым, память о котором имеет своих непосредственных носителей, процессы пересмотра и переинтерпретации истории не сводятся к более или менее объективной переоценке документальных свидетельств или смене теоретической парадигмы. Они вовлекают индивида в процесс пересмотра своей прошлой жизни, в переопределении своей идентичности, а иногда (как в случае молодого поколения) и в процесс конфронтации с родительским наследием.
3. Психоанализ и понятие коллективной памяти
Первым исследования коллективной памяти в рамках данного направления начал К. Г. Юнг. В своей работе «Психология бессознательного» он выделяет «личное» и «сверхличное» или «коллективное» бессознательное: «в каждом отдельном человеке есть великие «изначальные» образы, <…>, то есть унаследованные возможности человеческого представления в том его виде, каким оно было издавна» (Юнг, 1994: 105). Это более глубокие слои бессознательного, где содержатся общечеловеческие, изначальные образы - архетипы. Он отмечал, что коллективное бессознательное отделено от личного и является всеобщим. По происхождению архетипы более древние и составляют так называемый «первичный рисунок» для каждого человека, повторяющийся опыт человечества. Коллективное бессознательное как «оставляемый опытом осадок и вместе с тем как некоторое его, опыта, априори, есть образ мира, который сформировался уже в незапамятные времена» (там же: 141). Хранение архетипов в коллективном бессознательном осуществляется в форме «наследственных категорий».
Юнг считал, что при слиянии личного и коллективного бессознательного происходит расширение личности, ведущее к «состоянию инфляции». В таком слиянии он видел одну из причин возникновения неврозов у своих пациентов. Однако осознание содержания коллективного бессознательного и его размежевание с личным бессознательным позволяет ассимилировать архетипические образы, переработать их и понять.
При идентификации личности с коллективной психикой архетипические образы возвышаются до «уровня системы» (там же: 231). Человек утрачивает духовную свободу и возводит себя до уровня «пророка» или «ученика пророка», постигшего истину, которая все еще не открыта. Таким образом, коллективное бессознательное действует внутри психики как энергия, имеющая символические формы выражения. Их можно понимать как набор имеющихся в бессознательном определенных признаков, или предрасположенностей, которые при известных условиях активизируются и вторгаются в сознание в виде энергетических потоков, принимающих там наглядные символические формы или выражающихся в стереотипных реакциях и способах поведения.
Смысл индивидуации состоит в выделении личности из коллективного основания собственной психики, или, иначе говоря, «во втором, духовном рождении человека», возникновении психически самостоятельного, и, таким образом, способного к саморазвитию, существа. Однако сам по себе с историей развития человека возрастающий уровень сознательности отнюдь не гарантирует, что «психическую жизнь человека нельзя свести к коллективным ее формам» (там же: 14). Сознание может оставаться сознанием, но при этом быть одержимым образами коллективного бессознательного, отдавая себе отчет в чем угодно, только не в своей одержимости. Именно это и происходит, по Юнгу, в современном обществе с его массовой культурой и подавлением личности в тоталитарных государствах. Даже демократия, с ее стремлением к поощрению индивидуальных свобод не защищает человека от одержимости коллективным началом, ведь она изначально ориентирована на большинство. Трагизм современной ситуации состоит в том, что упоенное прогрессом и благополучием, нынешнее общество не замечает и не желает замечать «смерти личности и собственного окончательного вырождения» (там же: 15).
Современные последователи психоанализа также обращаются к исследованиям коллективной памяти о конкретных политических событиях, к процессам по оформлению этих проявлений памяти. Мы рассмотрим, как, в частности, понимают эти процессы М. Полляк, А. Руссо и М. К. Лавабр.
3.1. Концепция М. Полляка
Наша память структурируется и включается в память той общности, к которой мы принадлежим и ее атрибутам. К их числу относятся памятники - архитектурное наследие, стиль которого воздействует на нас на протяжении всей нашей жизни; пейзажи; даты исторических событий и исторические личности, о которых мы постоянно слышим; традиции и обычаи; различные правила общения; фольклор; музыка и даже гастрономические привычки.
М. Полляк считает, что можно понимать эти различные атрибуты-ориентиры как определенные эмпирические индикаторы коллективной памяти каждой группы, памяти «структурированной и иерархизированной, памяти, которая, определяя то, что объединяет в группу и одновременно отличает ее от других групп, порождает и закрепляет чувство причастности, принадлежности к группе, дает почувствовать наличие социокультурных границ» (Полляк, 1995: 191). Коллективная память играет позитивную роль в усилении социальной сплоченности не путем принуждения, а через эмоциональную аффективную групповую связь.
В своей работе «Память, забвенье, молчанье» Полляк анализирует коллективную память в свете политических событий в разных странах мира в XX веке. Он выделяет ряд этапов в развитии и изменении коллективной памяти. В частности, он отмечает, что «извержение информации, дотоле сдерживающейся под спудом памяти, …молчание … невинных жертв, лишенных социальных опор, насильственно мобилизованные воспоминания» - все это «свидетельства замечательной живучести в течение десятилетий, если не веков, индивидуальной и групповой памяти. Противостоя наиболее узаконенной, институционализированной национальной памяти, эти воспоминания скрываются в недрах семьи, в ассоциациях, ячейках общения, аффективного и/или политического» (там же: 203).
Границы между зонами молчания, забвения и бессознательного отталкивания образов памяти неопределенны, размыты и к тому же постоянно смещаются. Запрещенные, невыраженные и постыдные воспоминания передаются по неформальным групповым каналам общения, так как общество в целом их не замечает. При этом воспоминания претерпевают изменения в зависимости от ожидаемой реакции окружающих, материальных условий передачи информации (письменно, официально, закрыто) и характера отношений, установившихся между поколениями.
Различные виды образов памяти передаются и выстраиваются чаще всего независимо и даже в противоречии друг другу, но есть «точки соприкосновения, стечения обстоятельств, позволяющих общественности сопоставить эти сферы» (там же: 204). Границы между высказываемым и не высказываемым, признаваемым и не признаваемым и обозначает коллективная память. В этой памяти обобщен образ «мажоритарного общества, господство желает править и владеть» (там же: 204). Полляк отмечает, что различить условия, благоприятствующие и препятствующие проявлениям маргинализированной памяти, - значит вместе с тем определить, какую именно окраску придает настоящее прошлому. В зависимости от обстоятельств, при появлении тех или иных воспоминаний акцент смещается. Особенно часто «воспоминания о войнах и других великих потрясениях соотносятся непосредственно с настоящим, искажая прошлое при его интерпретации» (там же: 205). Между пережитым и сообщенным, пережитым и переданным существует постоянное взаимодействие, причем это применимо ко всем формам памяти - индивидуальной и коллективной, семейной, национальной, свойственной малым группам.
Оформление памяти подчинено требованиям обоснованности и вероятности. Если эту работу никто не сделает, переход от индивидуальной памяти к коллективной, по мнению Полляка, невозможен. Коллективная память не простая сумма индивидуальных воспоминаний, это результат особого рода работы, цель которой - помочь группе обрести свое «собственное историческое сознание, выходящее за рамки сознания каждого отдельного индивида» (там же: 205). Память как коллективное созидание событий и интерпретации прошлого, о сохранении которого идет речь, соединяется с более или менее осознанным стремлением определить и усилить чувство причастности, обозначить социальные границы между столь различными общностями - партиями, профсоюзами, церквями, селениями, областями, кланами и так далее. Отнесенность к прошлому служит «установлению связей между группами, институтами, из которых общество и состоит» (там же: 206).
Полляк выделил две основные функции «общей памяти» - это установление тесных внутренних взаимоотношений и защита границ того, что общего есть у различных групп. Таким образом, можно говорить об «обрамлении памяти» (там же: 206). Различные виды коллективной памяти благодаря особой деятельности - окантовке становятся связующим началом, придающим долговременность и прочность социальным тканям и институциональным структурам общества. У социальных меньшинств защита связанности и отказ от интеграции, воспринимаемые как потеря специфичности, часто подкрепляется культом традиции, генеалогией, книгами воспоминаний и предметами, ритуально передаваемыми из поколения в поколение. Их память «может не пережить их исчезновения, принимая форму мифа, который, не будучи в состоянии укорениться в политической реальности момента, сохраняется в культуре, литературе и религии» (там же: 209).
Полляк отмечает, что никакая работа памяти не протекает автономно, независимо. При обрамлении используется материал истории, который может по-разному истолковываться и связываться множеством ассоциативных связей, нацеленных не только на сохранение, но и на изменение границ воспоминаемого. То, что воссоздается в памяти, - это и есть смысл группового и индивидуального самосознания.
Полляк ставит вопрос о том, как долго может сохраняться память. Ответ на него он дает неоднозначный. Помимо различных, но единых в своей основе форм памяти, существующих в обществе, присутствуют столь же многочисленные конкурирующие формы коллективной памяти. Включаясь в господствующую национальную память, они приспосабливаются к существованию в обществе в качестве подспудной памяти и их трудно обнаружить вне моментов кризиса. «Если анализ самой деятельности по обретению, кадрированию памяти, агентов этой деятельности и ее материальных следов - это ключ к изучению с высоты птичьего полета того, как строятся, разрушаются и воссоздаются разные виды коллективной памяти, то обратный ход - тот, который посредством изустной истории, основанной на проявлениях индивидуальной памяти, позволяет обозначить границы этой кадрирующей, обрамляющей деятельности и вместе с тем - границы психологической деятельности индивида, стремящегося преодолеть болезненные разрывы, напряжения и противоречия между официальным имиджем прошлого и своими собственными личными воспоминаниями» (там же: 211).
Если говорить о коллективной памяти на уровне отдельного индивида, то «сконцентрированная индивидом история общества поддается множеству способов представления в зависимости от контекста, в котором рассказ находится» (там же: 213). При описании долгих периодов жизни, когда один и тот же человек много раз обращается к ограниченному числу событий, это явление фиксируется даже в интонации. В каждом жизнеописании есть твердое ядро, путеводная нить, лейтмотив. Пересказывая свою жизнь, мы пытаемся все упорядочить с помощью установления логических связей между ключевыми событиями (которые тем самым приобретают все более застывшую или стереотипизированную форму), а также восстановить непрерывность хронологического порядка. С помощью такой реконструктивной деятельности, направленной на самого себя, «человек пытается определить свое место в обществе и взаимосвязи с другими людьми» (там же: 214).
Таким образом, Полляк освещает основные особенности, характеризующие понятие социальной памяти, ее свойства, функции, опираясь на соотношение между официальной, легитимной памятью страны, народа, города и так далее и памятью неофициальной, закрытой, умалчиваемой.
3.2. Историческая память в концепции А. Руссо
А. Руссо рассматривал проблему коллективной памяти в контексте истории Франции. Национальная память французов о событиях Второй мировой войны, по его мнению, прошла ряд этапов в своем развитии:
1. чистка (ее цели и дилеммы);
2. амнистия, амнезия, вытеснение;
3. возврат прошлого, вытесненного.
Каждый из этих этапов был определен логикой развития исторических событий времен войны и трансформацией отношения к ним со стороны граждан, участников событий.
В частности, чистки выполняли ряд задач:
- «Обеспечение безопасности». Необходимо было «избежать возвращения к власти коллаборационистов, часть которых с оружием в руках боролась против сторонников Сопротивления и союзных армий, и, самое главное, удостовериться в надежности новых руководителей управленческих государственных органов. Тогда эту функцию рассматривали как первоочередную, так как переход к демократии проходил в период яростных боев за освобождение страны» (Руссо, 1995: 221).
- «Общественный регулятор» и «отдушина». Удалось направить в одно русло чувство накопившейся ненависти и преодолеть трудности, присущие любому переходному периоду.
- Политическое узаконивание власти. Чем чаще новая власть объявляла о своей решительности придать суду виновных, тем большую законность обретала она в глазах части общества. «Вначале важно было не обмануть ожидания французов, требовавших, в своем большинстве, решительной чистки. Позднее, наоборот, успокоить тех же французов, уже озабоченных слишком затянувшейся чисткой» (там же: 222).
- Восстановление правосудия и возмещение ущерба. А. Руссо отмечает, что эта функция была выполнена крайне неэффективно. Для новой власти речь шла не только о восстановлении доверия, но и о защите общественного порядка, поскольку необходимо было избежать проявления личной мести и не допустить накопления озлобленности у населения. Кроме того, по всем преступлениям, совершенным в рамках политики геноцида по отношению к евреям, виновные понесли тогда обычные наказания, что объясняет тот факт, что спустя полвека после окончания войны продолжались процессы в суде над бывшими вишистами.
- Самоутверждение личности в новых политических условиях (моральное и политическое удовлетворение). Чистке желали придать созидательный момент, вписывающийся в политику движения Сопротивления. Однако чистка, что означает отмывание страны, устранение «загрязнений», явилась первым этапом на пути к коллективной амнезии, поскольку в любом правовом государстве преступник, отбыв наказание, имеет право на обретение своего места в обществе и на забвение совершенного им преступления.
Всего по ходу проведения чистки Руссо выделил 4 дилеммы, которые являются показательными. Главная - как соблюсти право и закон в условиях гражданской войны? С того момента, когда в ответ на требования общественности было принято решение начать чистку, необходимо было определить: либо это будет месть победивших участников Сопротивления по отношению к побежденным коллаборационистам, либо будет вершиться правосудие, отвечающее республиканским традициям, с полным осознанием того, что оно далеко не совершенно и спорно. Вторая, как сбалансировать настоятельное требование чистки, с одной стороны, и необходимость прекращения этого братоубийственного процесса - с другой? «У чистки должны быть границы и во времени и в самом толковании. Именно поэтому довольно скоро прозвучало требование прекращения судебных процессов» (там же: 224).
Третья дилемма: можно ли без серьезных последствий и рискуя остаться без достойной замены, обрушиться на экономическую, административную и политическую элиту, представители которой были самыми заметными и несущими наибольшую ответственность фигурами? Совершенно ясно, что нет. Этим и объясняется отсутствие чистки в экономической сфере и относительная ее умеренность в сфере административной, вызванные необходимостью обеспечить преемственность институтов государства и стремлением предоставить наилучшие шансы для начавшегося тогда возрождения страны (там же: 225).
Четвертая - возрождение национального единства начиналось с отторжения, пусть даже оправданного, всех тех, кто имел какие-либо связи с режимом Виши и оккупантами, а это в определенной степени касалось их родственников и знакомых.
На втором этапе в общественном сознании и национальной памяти происходили три тесно взаимосвязанных процесса. Объявление амнистии остановило продолжавшийся общественный спор о масштабах коллаборационизма, о «широкой поддержке, которой он пользовался, и главным образом о самом сложном для восприятия аспекте, который сильно противоречит республиканской традиции, а именно о государственном антисемитизме и участии французского правительства в проведении операции по уничтожению евреев Европы (там же: 226). На все эти темы почти на двадцатилетний период будет наложено табу, как в официальной истории, так и в литературе, кино и даже в историографии.
Подобная коллективная амнезия стала возможна лишь потому, что две основные политические партии, «не желая понять подлинные чувства французов, предложили каждая свою трактовку периода оккупации, и трактовки эти отвечали глубокому желанию общественности не только предать забвению это прошлое, но и отвести от себя всю ответственность за содеянное» (там же: 227). Для того чтобы добиться и без труда поддерживать состояние амнезии, необходимо было добиться слияния важного политического акта (объявления амнистии) с героической интерпретацией истории, ставшей возможной благодаря реальной и бесспорной власти.
Третий этап был обусловлен тем, что в стране начал изменяться к тому времени далеко не критический взгляд на период оккупации. Разрыв с предшествующим периодом наблюдался как в политике, так и в культуре. На это имелся ряд причин:
- пробуждение еврейской национальной памяти (на скамье подсудимых оказались виновники антисемитских преступлений);
- отражение перемен в политической жизни государства (конец эпохи генерала де Голля и крах коммунистической партии);
- возрождение крайне правых антисемитских, националистических и ксенофобских партий.
Побочным следствием такой ситуации явилось «постоянное обращение к правосудию, как при обвинении в преступлениях против человечества, так и при организации многочисленных процессов по факту клеветы, которые гремят уже на протяжении десятка лет, а также процессов по пресечению распространения фашизма и фактов отрицания геноцида» (там же: 231).
Историческое наследие народов не может ограничиваться только героическими событиями их истории. Почти всем народам, и главным образом европейским, пришлось пережить и драматические события. Думается схему, предложенную Руссо, при известных оговорках и с соответствующими вариациями, можно применить к анализу коллективной памяти многих других наций.
3.3. М. К. Лавабр о коллективной памяти
В своей работе «Память и политика: о социологии коллективной памяти» М. К. Лавабр (Лавабр, 1995) анализирует опыт исторического пути различных государств, пытаясь оценить особенности коллективной памяти, ее формы, функции и трансформацию во времени. В частности, Лавабр отмечает, что память может представлять собой «миф, легенду, эмоциональное отношение к истории, воссоздавая прошлое таким, каким его видят индивидуумы и группы людей, готовые придать смысл и значение прошлому, которое они пережили» (Лавабр, 1995: 232). Иногда она выступает в виде более приукрашенной формы истории, уроков прошлого и иногда конечной целью является не знание, а соответствие тому, что стремятся создать власть имущие. А иногда память выступает и в виде живых воспоминаний тех, для кого минувшие события незабываемы и воссоздание этих событий не может быть в полной мере осуществлено официальными историками.
Соотношение между историей и памятью не везде одинаково. В этой связи становится ясно, что если память, как правило, отчуждает, то история освобождает. Лавабр отмечает, что на Востоке, где «официальная история запрещала проявления памяти, принуждала к забвению, фальсифицировала прошлое и лишала отдельных людей, семьи и социальные группы их воспоминаний, то есть их самобытности и различий, память, наконец, освободилась от оков живой истории» (там же: 234). Однако воскресшая память является, без сомнения, как и любая другая память, воссоздающая прошлое, инструментализацией прошлого и подчинена ближайшим политическим целям.
При этом Лавабр говорит о том, что различия истории и памяти становятся постепенно относительно слабыми, поскольку «память всегда приходится мерить на аршин истории, миф - на аршин реальности прошлого» (там же: 234). Обращение к прошлому является составной частью социальной принадлежности и наследие, каким бы оно ни было, должно быть принято для того, чтобы служить самосознанием индивидуумов и обществ. В основе отличия истории от памяти лежит не столько то, что отличает правду от лжи, сколько наличие в ней того, что представляет интерес прошлого. Память держится на интересе, основанном не на знании, а на идентичности. Это верно для «активных групп общества, особенно для политических движений и партий, которые возникают в противостоянии друг другу и ищут в прошлом причины своих различий. Это также верно для всего общества, которое, осуществляя контроль над преподаванием истории, задает ему цели и делает выбор» (там же: 235). Существует взаимосвязь между историей, которую преподают в школе, или которую предпочитает нация, официальной памятью, которую партия предлагает своим членам и активистам, и воспоминаниями, которые хранят индивидуумы. В результате этой взаимосвязи рождается так называемая коллективная память, то есть память, «более или менее разделяемая индивидуумами, совместные представления о прошлом, которые приуменьшают разнообразие личных воспоминаний» (там же: 237).
При этом, продолжает мысль Лавабр, данная взаимосвязь не всюду проявляется одинаково. Существует так называемый «эффект социализации индивидуумов», который дает о себе знать, например, во время вступления в партию. Действенность его ограничена интенсивностью прожитого в тот или иной момент тем или иным индивидуумом, группой индивидуумов и поколением, многочисленностью групп, к которым принадлежит индивидуум, подчиненный различным представлениям прошлого и так далее.
Если историк, заботящийся о чаяниях общества, неотъемлемой частью которого он является, и осознающий ответственность за отображение настоящего и прошлого, которое он разделяет со своими современниками, не тратит время на определение отличий между историей и памятью, то появляется новый подход. Это возможно в результате того, что «приобретаются знания, показывающие наличие у памяти рационального зерна, которого нет у истории» (там же: 235). Однако ничто не дает право делать вывод о том, что живая память индивидуумов и групп соответствует официальной памяти, которую выражает официальная история. Ничто не дает право предугадывать воздействие попытки контроля прошлого над воспоминаниями и знаниями о прошлом, носителями которого являются индивиды. Расхождение между исторической памятью организации и живой памятью ее активистов показывает, что невозможно без ущерба вычленить одну из другой. Расхождение позволяет предположить, что представления живой памяти давят на «политическую инструментализацию» (там же: 240). Сталкиваясь с эмоциональной стороной отношения к заранее растолкованному прошлому и живой связи поколений, историческая память может только в лучшем случае приукрасить специфическим образом ссылки на прошлое. Лавабр подчеркивает также идею о том, что какими бы ни были разработки прошлого и содержание преподаваемой истории, они совершенно не принимаются индивидуумами, так как «разрушают их самые глубокие убеждения, их представления о мире, раз полученные и очень «медленно трансформируемые» (там же: 242).
Таким образом, Лавабр своей работой постулирует следующую мысль: социология памяти развенчивает сакраментальный характер живой памяти, подобно тому, как труды историков подвергают критике официальные мемуары. Не менее и не более аутентичная, она взаимодействует, частично обусловленная преподаванием определенно ориентированной истории, а частично являясь политическим инструментарием прошлого, живая память подчиняется соображениям в тем большей степени, чем менее она декретируется. В ней действуют прочно слитые индивидуальные и коллективные представления, шкала ценностей и образ мыслей которые придают смысл прошлому, настоящему и будущему. Автор в данном случае разделяет понятия коллективной и исторической памяти, подчеркивая, что коллективная память - продукт взаимодействия официальной исторической и индивидуальной человеческой памяти.
Итак, психоаналитическая школа подчеркивает в коллективной памяти следующие черты:
1. изменчивость (может меняться с течением времени);
2. сложность (зависит от большого количества различных аспектов ситуации);
3. субъективность (может носить разные оттенки и эмоциональное отношение к прошлому).
4. Современная социология о коллективной памяти
Согласно «Современному философскому словарю», коллективной памятью называется «совокупность действий, предпринимаемых коллективом или социумом, по символической реконструкции прошлого в настоящем» (Турбина, 1998: 634). Субъекты сохранения коллективной памяти руководствуются в качестве идеала своей деятельности неким конструктом, который деятельно отстаивают, особенно в ситуации, когда в социуме фигурирует и конкурирует несколько версий прошлого. Коллективная память тесно связана с формированием коллективной и индивидуальной идентичности, проблемами легитимности политических режимов, идеологического манипулирования, с моральными аспектами прошлого.
Согласно А. Левинсону, «выходящая на общественную арену социальная группа или сила, как правило, приносит с собой собственную трактовку общего прошлого» (цит. по: Турбина, 1998: 635). При этом выдвижение на первый план какого-либо политического события тесно связано с забвением других событий, относящихся к обществу в целом или к данной группе. Память данного коллектива, группы, силы, возобладает в общем социальном дискурсе в случае, если данный коллектив будет доминировать. Эта закономерность особенно заметна в периоды социальной трансформации. В частности, одной из причин драматических процессов, связанных с обретением этнической и национальной идентичности народами Восточной Европы, созданием национальной идентичности в объединенной Германии, явилось именно предпочтение одних вариантов коллективной памяти другим. В то же время неустранимость из социального сознания иных, чем доминирующие, версий тех или иных событий, сосуществование нескольких «образов» прошлого свидетельствуют о том, что в отношении к прошлому проявляется своего рода объяснительный плюрализм.
Существенный вклад в осмысление коллективной памяти внесен Франкфуртской школой, и, прежде всего, Т. Адорно, исследовавшим особенности метаморфоз коллективной памяти в период послевоенного переживания вины и стыда германцев за ужасы фашизма, сопровождавшееся перечеркиванием индивидуальных и коллективных воспоминаний о национал-социалистической эре и тем самым отрицанием самого существования недавнего прошлого. Адорно обнаружил факт коллективного самообмана, на который указывал (и который маскировал) призыв к переоценке прошлого.
Ю. Хабермас выделил два измерения процесса осмысления нацистского прошлого в Германии:
- коллективный процесс обсуждения, посредством которого общество стремится к более полному пониманию самого себя в контексте новейшей истории;
- необходимость противостоять и осмысливать состояние индивидуальной виновности.
5. Социальная психология о коллективной памяти
Исследования коллективной памяти как исторического феномена в 1980–1890-е годы отличает их интенсивность и многоплановость, а также тот факт, что они ведутся параллельно с нарастанием общественного интереса к памяти и традициям. Собственно самое складывание и упрочение групповой, и, прежде всего, этнической идентичности тесно связано с существованием исторической памяти, реальной или воображаемой. Для такого рода этнической памяти характерна сосредоточенность не только на последовательности тех или иных событий, но и отражение совокупности чувств, откровений, ожиданий, эмоций и моделей поведения.
Несмотря на многолетнюю историю изучения коллективной памяти, до сих пор недостаточно определенным выглядит представление о ее объекте и предмете. Если обратиться к истокам изучения коллективной памяти, а именно, к работам М. Хальбвакса (Halbwachs, 1950), то нужно отметить, что объектом коллективной памяти им изначально принимались такие коллективы, как семьи. Именно передача воспоминаний от старшего поколения семьи младшему, то есть от дедов к внукам признавалась базовым каналом трансляции представлений о событиях прошлого. К концу XX века арсенал объектов в практике исследований коллективной памяти значительно расширился и включает теперь как ограниченные по численности сообщества (например, участники или очевидцы событий, если речь идет о недавней истории), так и большие социальные группы, поколенческие когорты и целые нации (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997). Такая расширительная трактовка объекта создает не только определенные разночтения в понимании самого феномена коллективной памяти, но и порождает трудности при сопоставлении результатов исследований. Однако на нынешнем этапе изучения коллективной памяти более точная квалификация объекта едва ли возможна.
Современные представления о предмете коллективной памяти на первый взгляд выглядят однозначными - это исторические события и их персонажи, однако практика исследований показывает, что коллективные воспоминания, в действительности, кристаллизуются на событиях и личностях, обладающих большой ценностной нагрузкой и, соответственно, сопряженных с эмоциональными переживаниями. Содержательно наполненные коллективные воспоминания обычно касаются героических или, наоборот, нравственно травмирующих политических событий истории, ее позитивно или негативно окрашенных эпизодов. Кроме того, в исследованиях последнего десятилетия была убедительно доказана связь между характером коллективных воспоминаний и групповой идентичностью, а также актуальными потребностями исследуемых групп. Таким образом, предметом коллективной памяти можно считать не любые исторические события и персонажи, а те, которые в значительной степени актуальны для современной политической жизни сообществ.
Одним из важнейших признаков, дающих основания трактовать коллективную память как социально конструируемый феномен является ее интерактивная природа. Мысль об интерсубъектной природе коллективных воспоминаний впервые была высказана Хальбваксом (Halbwachs, 1950), проработана Бартлеттом (Bartlett, 1950), а затем, уже в конце XX века доказана эмпирически. Многочисленные исследования коллективных воспоминаний о событиях недавнего прошлого показывают, что это всегда воспоминания в связи с другими людьми. Так, вспоминая о первых годах обучения в университете, студенты, прежде всего, называют эпизоды, связанные с общением (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997).
Есть эмпирические данные о том, что более стойкая и точная память регистрируется в тех случаях, когда вспоминаемое событие непосредственно после того, как оно произошло, обсуждалось с кем-либо (там же: 153). Авторы отмечают, что наиболее определенно эта закономерность проявляется в отношении эмоционально ярких событий. Результаты их исследований показывают, что группы, разделяющие свои прошлые коллективные травмы, обладают более эмоциональной и сложной памятью об этих событиях. Авторы утверждают, что социальная функция разделения прошлых травмирующих событий заключается в построении более четкого образа коллективных событий (там же: 155).
5.1. Конструкционистский подход к коллективной памяти
Связь коллективной памяти с эмоционально-ценностными аспектами жизни группы неизбежно ведет к изменчивости содержания и эмоциональной окраски коллективных воспоминаний, придает им культурно-историческую обусловленность. Подобные особенности феномена коллективной памяти дают основания рассмотреть его как разновидность коллективной ментальной реинтерпретации с позиций конструкционистского подхода (Gergen, 1985), который позволит применить к коллективной памяти более адекватные объяснения, нежели с позиций социального когнитивизма и наметить новые перспективы его изучения. Положение о том, что социальная реальность конструируется в процессе взаимодействия людей, является одним из основополагающих в социальном конструкционизме. Так, К. Герген называет человеческое взаимодействие источником конструирования знания (Gergen, 1985: 268). Обобщая принципы этого подхода П. Н. Шихирев (Шихирев, 1999: 361), подчеркивает, что основным объектом исследования знания являются «сообщества собеседников, участников разговора». Факты конструирования коллективных воспоминаний в процессе общения, с одной стороны, подтверждаются эмпирическими результатами, а, с другой - открывают большие возможности для качественного исследования дискурса как процесса, в ходе которого конструируются воспоминания (см., напр.: Billig, 1990).
Обсуждая конструкционистскую природу коллективной памяти, нельзя не обратить внимания на ее контекстуальный характер. Влияние социального контекста проявляется, прежде всего, в существовании множества точек зрения на один и тот же предмет воспоминаний. Подобные «разночтения» обусловлены социальными и социально-психологическими особенностями групп, внешними и внутренними условиями их жизнедеятельности. Влияние социального контекста было доказано многими эмпирическими исследованиями, в частности британскими авторами при изучении воспоминаний об отставке Маргарет Тэтчер (Gaskell, Wright, 1997). Так, в этом исследовании с участием более 6000 респондентов был использован особый вид экспресс-интервью стандартизированного типа - «omnibus» интервью, в котором выявлялось так называемое «качество воспоминаний» (MQ). Для этого испытуемых просили оценить четкость их воспоминаний, то, насколько, по их мнению, важной была отставка и рассказать об их эмоциональной реакции на это событие. Было обнаружено, что существуют значимые различия между группами в качестве воспоминаний об отставке Тэтчер, наблюдаемые среди разных социальных классов Великобритании. У респондентов из высших социальных классов, где больше сторонников консерваторов, наблюдались более высокие рейтинги памяти, поскольку для них уход Тэтчер был выдающимся событием, расколовшим консервативную партию на тех, кто считал, что она находилась у власти слишком долго, и на тех, кто все еще был ей предан.
Влияние социального контекста на содержание памяти было нами показано в исследовании фигуры идеального политического деятеля прошлого (Емельянова, 2006: 280–285). Анализ факторной структуры образа Петра I, возглавлявшего рейтинг идеальных лидеров, показал наличие значимых различий в содержании представлений в возрастных группах и группах с различными политическими предпочтениями. Подобная множественность образов коллективной памяти свидетельствует о сконструированности воспоминаний, их непосредственной зависимости от социально-культурного контекста жизни сообществ.
Результаты социологического исследования, посвященного массовым представлениям об исторических личностях (Левинсон, 1996), дают интересный материал о структуре представлений, охватывающих всемирную историю. Исследование проводилось ВЦИОМ в два этапа: в 1989 и в 1994 гг. Респонденты должны были назвать «десять самых выдающихся людей всех времен и народов». Аналитик обращает внимание на то, что число названных исторических деятелей XX века составляют величину, превышающую объем упоминаний исторических фигур за все остальные периоды истории человечества.
Таким образом, эмпирически выявленная структура массовой памяти определяется тем набором личностей, которые оказали непосредственное влияние на судьбы ныне живущих людей. При этом история России представлена в массовой памяти как история власти, то есть в качестве самых выдающихся людей фигурируют государи, диктаторы и военачальники (там же: 260–261). Однако даже в пределах пятилетнего промежутка времени между двумя исследовательскими срезами от 1989 до 1994 обнаружились различия в частоте упоминания исторических фигур недавнего прошлого. Массовое историческое сознание стало значительно менее интегрированным вокруг моносимвола - Ленина, оно стало более дифференцированным «по интересам», кроме того, четко обозначилась тенденция к актуализации «символов империи и авторитарного управления ей» (там же: 267). Подобная динамика массовой памяти даже на небольшом, но насыщенном политическими событиями отрезке времени, свидетельствует об особой подвижности этого феномена и «чувствительности» памяти к социальному контексту.
Между тем, именно конструкционистская парадигма в социальной психологии, по словам П. Н. Шихирева, побуждает рассматривать знание «не как процесс накопления, а как процесс бесконечного исторического пересмотра, реинтерпретации» (Шихирев, 1999: 361). Ведь любое знание, как утверждает автор движения социального конструкционизма Герген, является продуктом исторически сложившихся взаимоотношений между людьми (Gergen, 1985). Применение этого подхода к историческому знанию порождает новые методологические идеи, технологии исследования коллективной памяти и подсказывает убедительные интерпретации результатов.
Предпринятое нами изучение воспоминаний о Великой Отечественной войне (Емельянова, 2002) имело целью выявление ее репрезентации в различных культурных и возрастных группах (294 респондента). Для обнаружения специфики процессов конструирования социальных представлений в стабильных и кризисных условиях было предпринято исследование кросскультурных различий в социальных представлениях о начальном периоде ВОВ. Эта часть исследования проводилась в России и во Франции на группах людей старшего возраста, бывших непосредственными участниками или очевидцами войны. Репрезентации французов старшего возраста (российских эмигрантов первой волны) и российских ветеранов обнаруживают существенные различия. Суть этих различий состоит, прежде всего, в расхождении трактовок значения советского патриотизма и роли Сталина в победе.
У российских респондентов построение положительного образа прошлого и образа «своей» группы в нем выражалось процессами «заякорения» социального представления о войне на социально позитивных моментах. Это проявлялось в акцентировании объективных, а не субъективных причин неудач первых месяцев войны, подчеркивании позитивных моментов довоенной жизни и военной стратегии Сталина. Мы связываем эти особенности воспоминаний с защитной функцией, которую выполняет коллективная память благодаря действию механизма коллективного символического коупинга.
Французские респонденты российского происхождения, напротив, акцентировали экономические трудности довоенной жизни в СССР, негативную роль Сталина в войне, нелояльность населения сталинскому режиму. Такие противоположные по смыслу версии одних и тех же исторических событий у людей одного и того же возраста и этнического происхождения могут объясняться только различным культурно-историческим контекстом их жизни и сопутствующими ему влияниями институциональной исторической памяти.
Обнаруженная в современных исследованиях связь коллективных воспоминаний с идентичностью групп (предсказанная еще Хальбваксом), объясняет их зависимость от контекста, а также определяет то соответствие, которое существует между характером воспоминаний и актуальными потребностями групп. Конструирование воспоминаний как отвечающих эмоциональному настрою и наличной мотивации сообщества, в частности, отчетливо наблюдается в изменениях содержания и эмоциональной окраски памяти о времени фашистской оккупации во Франции. Анализируя различные состояния коллективной памяти французов, А. Руссо (Руссо, 1995) называет этот период «постыдной страницей» в истории Франции и ставит вопрос о проблеме «управления историческим прошлым», механизмах и закономерностях подобного «управления» со стороны общественного сознания. Автором показано, что эволюция воспоминаний обнаруживает еще один важнейший аспект коллективной памяти - ее ценностную природу. Такие этически «нагруженные» ценности не просто сопровождают воспоминания, именно они радикально меняют их смысл и содержание.
Идея ценностной природы знания, воспринятая конструкционистами из социологии знания и этнометодологии, полностью применима к результатам исследований коллективной памяти. Исследование социальных представлений о различных периодах истории СССР (Емельянова, 2006: 272–276) проводилось в различных группах респондентов (рабочие, интеллигенция, неработающие пенсионеры, безработные и студенты). При сравнении оценок респондентами основных периодов истории СССР обнаружился период, позитивно оцениваемый всеми опрошенным группами, включая студентов, - время правления Л. И. Брежнева. Все группы респондентов в своих представлениях переносят на этот период свои фрустрированные на момент исследования переживания, «нагруженные» соответствующими ценностями.
Для респондентов-рабочих - это такие ценности, как «социальные гарантии», «стабильность», «спокойствие». Для представителей интеллигенции - «безмятежность», «романтика», «стабильность». В группе неработающих пенсионеров позитивные воспоминания об этом периоде советской истории сопряжены с «бесплатным лечением», «молодостью», «достатком» и «защищенностью». В группе безработных актуализировались в основном ценности экономического плана: «стабильность», «достаток» и др. Студенты не пережили это время непосредственно, но, вероятно, в несколько идеализированном виде восприняли его образ от старшего поколения. Их отраженные воспоминания конструируются в связи с такими ценностями, как «стремление к образованию», «дружба», «спокойная жизнь», «развитие науки», «подъем», «гарантированная работа». Представление о, так сказать, «золотом веке» советской истории, связываемом респондентами с ее брежневским периодом, объединяет людей разного возраста и рода занятий, но имеет в каждой группе смысловые нюансы, которые определяются заявляемыми ценностями. Воспоминания в данном случае играют роль ментального «буфера», смягчающего неудовлетворенность настоящим положением дел, и в символическом плане компенсирующим соответствующий дефицит.
Эмоциональная составляющая коллективной памяти исследовалась многими авторами, которые подчеркивали роль эмоций в распространении и запечатлении информации (Rimé, Christophe, 1997), в поддержании позитивной идентичности группы при конструировании воспоминаний (Емельянова, 2002), в осуществлении коллективного коупинга (Paez, Basabe, Gonzalez, 1997). Так, в исследовании, касавшемся коллективных воспоминаний о похищении бывшего премьер-министра Бельгии (Rimé, Christophe, 1997), авторы фокусируют внимание на важном социально-психологическом процессе, состоящем в передаче частного эмоционального опыта другим. Он, по мысли авторов, основан на принципе, согласно которому любой эмоциональный опыт непременно социально разделяется. Этот процесс они называют социальным разделением эмоций. Социальное разделение эмоции - это процесс, происходящий на протяжении многих часов, дней и, возможно, недель и месяцев, последующих за эмоциональным эпизодом (там же: 133). Психологический механизм этого процесса родственен тому, что участвует в процессе серийного воспроизводства, открытого Бартлеттом (Bartlett, 1950).
В обзоре, проведенном Риме с соавторами, где анализировались 1384 различные жизненные эпизода, наблюдаемая доля случаев, в которых участники говорили с другими людьми о прошлых эмоционально окрашенных событиях, составляла от 90% до 96,3%. Эта доля не менялась ни с возрастом или полом испытуемых, ни в зависимости от типа конкретной эмоции (будь то страх, гнев, радость, досада или стыд). Более того, особенности культуры (в пределах различных западноевропейских стран) также не влияли на результат.
Конструкционистский подход позволяет взглянуть на эмоционально-ценностную «предвзятость» памяти не с точки зрения артефактов, ошибок и «необъяснимой» коллективной амнезии, а с точки зрения культурно-исторической логики момента и связанного с ней представления об «этике памяти». Уместно привести слова французского историка, еще раз вернувшись к памяти французов о времени фашистской оккупации Франции: «французское общество в целом, от добровольного акта амнистии до коллективной амнезии, сокрыло черные страницы режима Виши. История, освобожденная от гнета памяти, то есть от легенды, искусно поддерживаемой политическими властями, являющимися соучастниками идеализированной истории движения Сопротивления в том виде, в коем ее предложили и организовали голлисты и коммунисты, подошла к рубежу, за которым ее больше не считают священной, за которым ее начинают критиковать во имя «этики памяти», отвергающей забвение» (Лавабр, 1995: 234). Сравнительные исследования «легенд памяти» в разные исторические периоды могли бы многое сказать о динамике особенностей нравственного идеала в истории отдельных наций и всего человечества.
Подход к коллективной памяти с позиций конструкционизма открывает дополнительные возможности анализа не только интерпретаций истории политических событий и их эмоционально-ценностной основы, он позволяет по-новому взглянуть на те процессы, эффекты и структурные особенности памяти, которые были обнаружены исследователями. Одним из процессов коллективной памяти являются систематические ознаменования событий истории. По аналогии с индивидуальной памятью, их можно рассматривать как упорядоченные во времени воспроизведения событий в памяти, носящие ритуальный характер. Кроме уже упомянутых культурно-исторических факторов и причин, связанных с упрочением позитивной идентичности группы, ознаменования имеют, личностную основу, так как люди чувствуют желание упорядочить поток времени, структурировать и отметить свою собственную позицию в нем. Выделение отмечаемых дат, частота и масштабность празднований различных общественных событий представляет специальную исследовательскую проблему.
6. Коллективная память как фактор обыденного политического сознания
Абстрактному знанию об исторических фактах, казалось бы, противоречит хорошо известная тенденция к их персонификации . В современном российском обществе, для которого характерны высокий уровень образованности населения и мышление, опирающееся на абстрактно-теоретические категории (социализм, рыночная экономика), имена «Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, Горбачева и Ельцина являются наиболее распространенными обозначениями исторических периодов и ведущих политических тенденций» (Дилигенский, 1994: 22). Однако если приглядеться, подобным образом персонифицированное общественно–политическое мышление, в сущности, оперирует не только представлениями о правителях страны как реальных, эмпирически воспринимаемых личностях, сколько их абстрактными образами, базирующимися в коллективной памяти, символизирующими те или иные обобщенные понятия и отражающими различные типы политических взглядов. В зависимости от этих взглядов субъектов сознания один и тот же политический деятель может, например, символизировать порядок и национальное величие или деспотизм и террор, социальную справедливость или подавление свободы, прогрессивные изменения в обществе или его разрушение.
Итак, относительно высокий уровень абстракции и опора на отвлеченные категории, являются одной из важнейших характеристик политического сознания человека. Другая его характеристика - громадная роль в его формировании, воспроизводстве и развитии разделяемых элементов политического знания, запечатленных в коллективной памяти различных групп общества. Во многом содержание обыденной политической психологии зависит от этих источников больше, чем от индивидуального и актуального опыта, собственно познавательной деятельности субъектов.
Конечно, на протяжении своей жизни индивид постоянно сталкивается с социально-политической действительностью, испытывает ее воздействие. Однако, его индивидуального опыта совершенно не достаточно как для формирования обобщенных, построенных на абстрактных понятиях представлений о ней, так и для «уяснения причинно-следственных связей между непосредственно воспринимаемыми и испытываемыми явлениями, с одной стороны, и обусловливающими их факторами - с другой» (Дилигенский, 1994: 24). Эти факторы значительно удалены от его непосредственного восприятия, как во времени, так и в пространстве. Во времени, - потому что многие явления настоящего обусловлены событиями исторического прошлого. В пространстве, - так как такие решающие факторы общественно-политической жизни как динамика макроэкономических процессов, отношений между большими социальными группами, деятельность органов власти и принятие политических решений находятся вне сферы непосредственного наблюдения индивидов.
Социально-политические знания состоят из информации о фактах, обобщений, оценок и объяснений, которые с большим трудом поддаются эмпирической проверке. Во-первых, потому что в своих концептуальных, оценочных и каузальных аспектах они чаще всего формируются в рамках идеологий, под влиянием тех или иных идейно-политических течений и пристрастий. И хотя идеологии могут более или менее верно отражать какие-то стороны действительности, они неизбежно «выпрямляют» ее, «так или иначе подгоняют под себя, гипертрофируя одни ее аспекты и замалчивая или отводя в тень другие» (Дилигенский, 1994: 25). Во-вторых, чем дальше отстоит объект социально-политического познания от собственного опыта субъекта и его непосредственного восприятия, тем труднее подвергнуть проверке характеризующие объект суждения, и тем чаще он вынужден обращаться к устойчивым образам коллективной памяти.
Роль образов коллективной памяти в системе социально-политических знаний людей наглядно демонстрирует устойчивость «социалистической идеи» в советском и российском обществе. Вместе с оттепелью появились бреши в железном занавесе: умножилось число советских людей, посещавших зарубежные страны и имевших возможность воочию сравнить условия жизни в СССР и на Западе. «Социалистическая идея» потеряла в большой мере свою былую эмоциональную насыщенность, перестала вызывать энтузиазм, определять общее поведение и настроение людей. И все же она продолжала жить. Даже в первые годы перестройки, когда общество уже не скрывало от себя пороки собственной системы, а в публицистике и общественной мысли появились идеи реформирования, совершенствования социализма, очищение его истинной сущности от пороков тоталитаризма (там же: 26), значительная часть населения не принимала идеологии перестройки. Коллективная память об эпохе социализма породила у большой части населения образ своего рода «золотого века» в жизни страны. Наши исследования показали, что у представителей различных групп общества (включая молодежь) как наиболее «счастливый» исторический период в жизни страны в коллективной памяти запечатлен период позднего социализма (Емельянова, 2006).
Основа прочности данного образа в том, что люди склонны свои актуальные проблемы мысленно «примерять» на прошлое и идеализировать его. Коллективная память в этом случае выполняет функции психологической защиты, порождая в обыденном политическом сознании «фантомы», призванные эмоционально сгладить «тьмы низких истин» политической действительности прошлого и создать психологическую опору в настоящем.
Заключение
Понятие коллективной памяти, несмотря на столетнюю историю существования, не стало в современной науке общепринятым. Более того, не было разработано единой концепции коллективной памяти, скорее можно говорить, о наличии подходов к этому феномену в различных школах социологии, истории и социальной психологии. По-видимому, проблема заключается как в неоднозначности явления коллективной памяти, образующего сложные связи с другими феноменами обыденного сознания (социальными представлениями, политическими установками, социальной идентичностью и др.), так и в сложности его изучения. Коллективная память - явление «многомерное», обладающее сложной структурой. Исследователи в рамках социальной психологии подходят к нему с разных сторон, изучая его различные аспекты: сохранение образов и их фиксация, воспроизведение образов событий и персонажей как акты ознаменования, искажение и забвение отдельных эпизодов истории, отдельные эффекты коллективной памяти, например, ее связь с эмоциональными переживаниями или поколенческие эффекты и др. Такое многообразие «обличий» коллективной памяти, с одной стороны, свидетельствует о богатстве содержания и важности этого феномена для понимания механизмов психологии социального познания, с другой стороны, осложняет задачу создания единой теории коллективной памяти. Между тем, очевидно, что адекватное понимание многомерного содержания современного обыденного политического сознания невозможно без анализа образов коллективной памяти, разделяемых членами различных групп общества.
Библиограф. описание : Емельянова Т. П. Коллективная память в контексте обыденного политического сознания [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2012. № 4 (июль - август). URL: [архивировано в WebCite ] (дата обращения: дд.мм.гггг).
видцев в Евангелиях отвечает высочайшим стандартам античной историографической практики. Эти стандарты предполагали, что лучшая история - история новейшая, написанная, пока еще живы очевидцы. Следовательно, Евангелия были написаны в период от смерти Петра до смерти Любимого Ученика, пока очевидцы постепенно уходили из жизни.
Память индивидуальная и коллективная
Критики форм полагали, что евангельские предания помнила «община». Инте ресно отметить, что писали они в то же время, когда французский социолог Мори Хальбвакс ввел в социологию понятие «коллективной памяти» ² . Но, хотя эта концепция имеет самое прямое отношение к модели устной истории, которую использовали критики форм - они, по–видимому, н только не испытали ее влияния, но и не уделили ей серьезного внимания ²¹.
² M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la memoire
(Paris: Alcan, 1925).
²¹ См. W. H.Kelber, "The Case of the Gospel Memory"s Desire and the Limits of Historical Criticism,"
Oral Tradition 17 (2002) 65: в трудах Бультмана «нет какой–либо заметной рефлексии над проблемой памяти. В его научной работе это понятие остается без определения. Этот пробел, по–види- мому, связан с его неадекватным пониманием как
Труды Хальбвакса, в которых подчеркивалась социальная сторона индивидуальной памяти, приводящая к возникновению памяти коллективной, оказали значительное влияние на антропологию, социологию, историю культуры и устную историю ²². В результате в этих дисциплинах коллективная память начала заслонять индивидуальную, в то время как психологические исследования памяти, которых мы коснемся в следующей главе, начали чрезмерно сосредоточиваться на индивидуальной памяти, без учета ее социальных аспектов. В последнее время с обеих сторон появляются по пытки выправить этот крен и вернуть равновесие ²³. Так, антрополог Джеймс Фентресс
устного творчества, так и евангельских текстов… Его интересуют лишь оригинальная форма речения или рассказа и их место в жизни общины
Риторическими, перформативными, мнемоническими аспектами речи он не интересуется».
²² Примеры использования концепции коллективной памяти в этих дисциплинах см. в: P Connerton, How Societies Remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989); P.Burke, "History as Social Memory," in idem, Vaneties of Cultural History
(Cambridge: Polity, 1997) 43–59; E. Tonkin, Nanating Our Past: The Social Construction of Oral History
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992); и D.Mendels, Memory in Jewish, Pagan and Christian Societies of the GraecoRoman World .
²³ Примеры психологических исследований - J.
и историк Средневековья Крис Уикхем совместно написали книгу о коллективной памяти, в предисловии к которой формулируют свою задачу так:
…Важная проблема, встающая перед каждым, кто хочет следовать за Хальбваксом в этой области: как разработать такую концепцию памяти, которая, полностью отдавая должное коллективной стороне сознательной жизни человека, не превращала бы индивидуума в какой–то автомат, пассивно повинующийся воле коллектива? ²
Bruner and С. Fleisher Feldman, "Group Narrative as a Context of Autobiography," and W. Hirst and D.Manier, "Remembering as Communication: A Family Recounts Its Past," both in D. C. Rubin, ed., Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
² J.Fentress and C.Wickham, Social Memor (Oxford: Blackwell, 1992) ix. Хальбвакса, как и его учителя Дюркгейма, часто критикуют за акцент на общности, взаимодействии, согласии в обществе - и игнорирование реальности и важного значения разногласий, а следовательно, и существования различных и конфликтующих между собой коллективных памятей: см., например, Burke, "History as Social Memory," 55–56; В. A. Misztal
Theories of Social Remembering (Philadelphia: Open University, 2003), глава 3; Green, "Individua Remembering," 40–43. Это важное замечание для исследования раннего христианства - движения, чья социальная память отличалась от социальной
Барбара Мисталь, также критикуя тенденцию к социальному детерминизму в работе Хальбвакса, тоже ищет некую золотую середину между социальным детерминизмом и чрезмерным индивидуализмом, игнорирующим социальное измерение. Она предлагает «интерсубъектный» подход, в котором запоминание, хотя и складывается сообразно культурным формам и ограничивается социальным контекстом, является индивидуальным психическим актом. Запоминают отдельные люди - однако они же постоянно контактируют с миром, пронизанным коллективными традициями и коллективными ожиданиями ² . Память «интерсубъектна»: «запоминает индивидуум; однако запоминание - не просто индивидуальный акт» ² .
Для наших целей важно провести некоторые разграничения, которые в подобных дискуссиях обычно не делают. Одно и них - различие между личной или «живой» памятью, когда в процессе воспоминания человек вновь «переживает» запомнившиеся ему события, и, с другой стороны, запоминанием информации. Вполне возможно запомнить и впоследствии воспроизводить в памяти информацию, в том числе о соб
памяти тех сообществ, из которых оно возникло.² Misztal, Theories, особенно глава 4.
² Там же, 6.
ственном прошлом, без переживания этой памяти как личной. Например, можн узнать (из собственного дневника или со слов других людей), что сорок лет назад ты побывал на свадьбе такого–то знакомого - однако ничего об этом не помнить. Это информационная память, отличная от непосредственного воспоминания. Воспоминание возможно лишь для человека, участвовавшего во вспоминаемом событии (хотя бывают и случаи ложных воспоминаний, когда люди «помнят» переживание и восприятие событий, при которых они на самом деле не присутствовали). Когда такое воспоминание передается другим - оно перестает быть личным воспоминанием и превращается в информацию о том, что произошло с человеком, пережившим такое–то событие и его запомнившим.
Большая часть того, что именуется «коллективной», «социальной» или «культурной» памятью - не что иное, как общая информация о прошлом. Именно это имеется в виду, когда говорят, например, что ка кая–то большая социальная группа «помнит» некое значительное событие прошлого: хотя, если это событие произошло более или менее недавно, конкретные члены сообщества могут иметь о нем личные воспоминания и даже обогащать коллективную
память своими личными свидетельствами. Таким образом, индивидуальная память, разделенная с другими, является первичным источником памяти коллективной и более того, может подпитывать собой последнюю на любой из более поздних ста дий - пока индивиды, о которых идет речь, живы и активно вспоминают свое прошлое. Вследствие такой связи между индивидуальной и коллективной памятью большинство специалистов, изучающих коллективную память, если вообще передают личные воспоминания, то присоединяют их к коллективной памяти ² . Так, например, Ми сталь, подчеркивая, что вспоминает именно индивид, не имеет в виду ни его собственные воспоминания, ни даже то, что индивид каким–либо образом заинтересован в различении собственных воспоминаний и общего знания о прошлом, почерпнутого из любых других источников. Как правило, она говорит о таком знании прошлого, которое не предполагает личных воспоминаний. В сущности, «память» для нее равнозначна традиции ² . Припомнив проведенное Яном
² К сожалению, несмотря на очевидное феноменологическое различие между личным воспоминанием и запоминанием информации, до сих пор не выработано четкое и недвусмысленное разграничение между ними на терминологическом уровне.
² См. представление о «традиции как инфор-
Венсайной различие между устной историей и устной традицией (см. главу 2), мы можем сказать, что в фокусе устной истории находятся личные воспоминания, в то время как устная традиция работает с коллективной памятью группы, прошедшей через поколения. Личное воспоминание имеет временной лимит - оно существует, лишь пока живет его носитель, - но у коллективной памяти такого лимита нет.
Чтобы двигаться дальше, выделим три категории: (1) социальный аспект личных воспоминаний; (2) общие воспоминания группы; и (3) коллективная память. Первая категория достаточно важна - она позволяет избежать чрезмерно индивидуалистического понимания личной памяти; однако не следует смешивать ее с остальными. Даже свои личные воспоминания индивидуум хранит как член определенной группы; ученые, прилагающие к античному миру концепции средиземноморской антропологии, утверждают, что для античности это намного более верно, чем для современного западного индивидуализма. Однако даже если говорить о современной культуре - права Мисталь: «Личное воспоминание существует в социальном контексте: оно основано на социальных сигналах, используется в
мации, сохраненной в памяти» в главе 6 Vansina,
социальных целях, управляется социальными нормами и образцами и, таким образом, содержит в себе немало социального» ² .
Этой темы мы еще коснемся в следую щей главе. Сейчас же важно отметить, что социальное измерение личных воспоминаний вовсе не противоречит личному чувству «собственности» на воспоминание о том или ином пережитом событии. В рассказе о таком воспоминании - как правило, единственном числе первого лица - социальное измерение может вовсе не присутствовать. Кроме того, не следует думать, что социальное измерение есть только у памяти. Люди зависят от общих культурных ресурсов во всех аспектах своего мышления и должны отвечать культурным ожиданиям во всех формах общения с окружающими.
Таким образом, социальное измерение личных воспоминаний не требует «растворения» личной памяти в памяти коллективной. Не требует оно и подчинения личной памяти коллективной как некоей высшей форме. Однако (2) существует форма памяти, связанная с тем, что группа людей, пережив вместе какое–либо событие, сохраняет и общие воспоминания о нем. Групповые воспоминания такого рода есть у каждой семьи. Фонд общей памяти группы создается
² Misztal, Theories, 5.
из своего рода смешения индивидуальных воспоминаний. Однако у индивидуумов сохраняются собственные воспоминания: личные точки зрения на события, пережитые всей группой, а также воспоминания о том, чего остальные члены группы не помнят ³ .
Именно о таком типе групповой памяти говорит Джеймс Данн, когда весьма логично предполагает, что уже во время служения Иисуса у его учеников начали формироваться общие воспоминания о нем ³¹. Можно предположить, что это происходило одновременно с несколькими группами учеников. Такой неформальный обмен воспоминаниями предшествовал более официальному формированию корпуса преданий, произошедшему в какой–то достаточно ранний момент истории Иерусалимской церкви. Основным источником этих преданий стали воспоминания Двенадцати; но, возможно, в них были включены и свидетельства других людей - например, учениц помнивших события смерти и погребения Иисуса, а также обретения пустой гробницы,
³ См. Misztal, Theories, 11. Hirst and Manier "Remembering as Communication," 273, сообщают,
что «коллективные воспоминания, принятые всеми участниками [группы], вспоминаются более живо и подробно, чем воспоминания отдельных людей вне группы».
³¹ Dunn, Jesus Remembered, 239–241.
при которых другие ученики не присутствовали. Так от общих воспоминаний сообщество перешло к собиранию воспомина ний - не только от Двенадцати, но и от других очевидцев. Это был шаг и в сторону третьей категории - коллективной памяти. Однако ни обмен воспоминаниями среди учеников, ни собирание и упорядочивание воспоминаний Двенадцати не уничтожили и не устранили личных воспоминаний каждого очевидца в отдельности.
(3) Термином «коллективная память» я обозначаю предания группы о событиях, о которых далеко не у всех членов групп имеются личные воспоминания. В период, когда очевидцы жизни Иисуса были еще живы и доступны, набор индивидуальных и общих воспоминаний должен был превратиться в такую чисто коллективную память. Группы христиан, не бывшие очевидцами, принимали свидетельства очевидцев, приходившие к ним как непосредственно о очевидцев, так и в виде общих воспоминаний группы (Двенадцати), как свою общинную традицию ³². Мы уже обсуждали при-
³² Те, кто считает отличительной и всепроникающей характеристикой раннехристианского движения его конфликтность, подчеркивают, что такие группы учеников, а также авторы Евангелий и их первые читатели / слушатели соперничали между собой, выдвигая противоречащие друг
чины предположений, что элементы этой традиции продолжали приписываться очевидцам, из воспоминаний которых они сложились. Общины принимали их не просто как анонимную традицию, которую теперь можно сделать своей - они знали, что эти предания принадлежат очевидцам, от которых они пошли. Термин «коллективная память» не должен заслонять этого факта.
В Евангелиях личные и общие воспоминания очевидцев приобрели письменную форму - однако, как мы уже видели, указания на очевидцев–источников того или иного предания были включены в повествование. Эти записанные предания сформировали коллективную память церкви об Иисусе. Тот факт, что именно четыре канонических Евангелия, после периода жарких споров о том, какие евангелия следует считать достоверными, стали постоянными источниками коллективной памяти церкви об Иисусе означал, что эта коллективная память сохранила некое сознание своего происхождения от личных воспоминаний очевидцев. Сама церковь не «помнила» Иисуса в том ж смысле, в каком помнил его, например Петр - ее память об Иисусе была «вторичной» и не имела бы никакой реальности, не
другу притязания на коллективную память. Я не столь склонен видеть в этом контексте кон фликт.
будь она укоренена в личных воспоминаниях Петра и прочих.
Проведенные нами разграничения должны предостеречь нас от бездумного применения к преданиям об Иисусе в новозаветный период всего того, что говорят о коллективной памяти социологи и историки. Последнее во многих случаях относится более или менее ко всему, что знают сообщества о своем коллективном прошлом ³³, независимо от того, играют ли какую–т роль здесь личные воспоминания. Акцент при этом ставится на том, как сообщество осмысливает свое коллективное прошлое и использует воспоминания о нем в настоящем. Использование понятия коллективной памяти в истории культуры и других подобных дисциплинах, как правило, не предполагает интереса к личным воспоминаниям как источникам коллективной памяти. Если же о них вообще вспоминают - как правило, социальное измерение индивидуальной памяти используется для того, чтобы сте реть разницу между ней и коллективной па-
³³ Например, говоря о средствах передачи соци-
альной памяти, Burke, "History as Social Memory," 47–49, перечисляет предания, мемуары и другие письменные источники, визуальные образы, мемориальные действия, памятные места. Connerton,
How Societies Remember, сосредоточивается на
«мемориальных церемониях» и «телесных практиках».
мятью ³ . Мы уже показали, что это неверно. Существует реальное и существенное различие между, с одной стороны, личными воспоминаниями, на которые оказывает влияние социальный контекст - и, с дру гой - той коллективной памятью, которая составляет собственность всей социальной группы и представляет собой информацию о ее коллективном прошлом. Личные воспоминания могут помочь в формировании коллективной памяти, но от этого не становятся ей тождественны. В определенных обстоятельствах (как в древнейшем христианском движении) личные воспоминания могут сохранять решающее значение именно
как личные воспоминания. Тот факт, что их носители принадлежат к определенной группе, а их воспоминания встроены в определенный социальный контекст, не пре уменьшает значимости их самих как индивидуумов, а их воспоминаний - как уни кального личного опыта, именно по этой причине высоко ценимого группой.
Есть и другая область, в которой дискуссия о коллективной памяти прямо связана с
³ Эта тенденция и ее влияние на устную историю проанализированы А. Green, "Individua Remembering," который считает, что маятник сейчас слишком резко качнулся в сторону коллективной памяти, прочь от памяти индивидуальной.
нашим исследованием передачи преданий об Иисусе. Еще одно наследие Дюркгейма и Хальбвакса, помимо тенденции растворять индивидуальную память в коллективной - тесно связанная с ней склонность отож дествлять воспоминания как таковые с их функциями в жизни сообщества. И снова мы видим поразительное сходство с критикой форм и ее влиянием на новозаветные ис следования на протяжении всего XX века ³ . Мисталь называет эту тенденцию «презентистским» подходом к коллективной памяти, определяя его как убежденность в том, что «настоящее формирует прошлое согласно своей доминирующей идеологии» ³ При этом память оказывается на служб групповой идентичности: предполагается, что прошлое изобретается в форме новых
³ Kelber, "The Case of the Gospels," 55–86, явно испытывая влияние традиции Хальбвакса, говорит не столько о традиции, сколько о памяти и критикует всепоглощающее внимание к оригинальным формам преданий, свойственное критике форм; однако настаивает на том, что «воспоминание» в традиции об Иисусе и в Евангелиях полностью обусловливалось текущими устремлениями и потребностями. Такое поглощение прошлого настоящим тесно связывает Келбера с критикой форм.
³ Misztal, Theories, 56. Отметим такж Е.Hobsbawm and T.Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
преданий или ритуалов, дабы создать или поддержать групповую идентичность. Когда внимание переносится на то, кто же контролирует и навязывает сообществу такие вымышленные воспоминания, социальная память начинает восприниматься как идеология, обслуживающая интересы власти. По мнению Мисталь, память при этом превращается в «пленницу политического редукционизма и функционализма» ³ . Полной идентификации социальной памяти с политической идеологией можно избежать с помощью того, что она называет «народническим» подходом к социальной памяти. Этот подход, основанный на идеях Мишеля Фуко о народной памяти и обратной памяти, показывает, что социальная память може конструироваться не только «сверху вниз», но и «снизу вверх» («обратно»). Группа устных историков, называющих себя «группой народной памяти», критикует даже Фуко за его недооценку независимости народных воспоминаний и их способности сопротивляться доминирующей идеологии - и посвящает себя исследованию альтернативных традиций ³ .
³ Misztal, Theories, 61.
³ Misztal, Theories, 61–63. P. F. Esler, Conflict and Identity in Romans: The Social Setting of Paul"s Letter
(Minneapolis: Fortress, 2003) 174–175, вводит поня-
тие коллективной памяти в исследование посла-
Наконец, Мисталь описывает подход «динамики памяти», важный тем, что он противостоит тенденции растворять память о прошлом в ее функциях в настоящем ³ Социальная память предстает здесь как постоянный процесс «торга» с прошлым, показывающий, что существуют «пределы возможности для лиц, действующих в настоящем, переделывать прошлое сообразно своим интересам». Прошлое - не просто современный конструкт: оно «отчаянно сопротивляется попыткам себя пересмот реть». Каждый рассказ о прошлом - новая попытка понять взаимоотношения прошлого и настоящего. Эти взаимоотношения постоянно меняются, вместе с ними течет и развивается социальная память; однако этот процесс не ограничивается «выдумыванием» прошлого - он заключается в постоянном взаимодействии прошлого и социальной памяти. Такой подход к коллективной памяти в исторической науке пред-
ний Павла, однако, в отличие от Хальбвакса и других, делает акцент на том, как борются между собой за обладание коллективной памятью и ее интерпретацию соперничающие группы.
³ В качестве примера Мисталь цитирует М. Schudson, Watergate in American Memory (New York: Basic Books, 1992); и B.Schwartz, Abraham Lincoln and the Forge of National Identity (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
Misztal, Theories, 67–73.
ставляет собой близкую параллель с критикой Венсайны выдвинутого антропологом Джеком Гуди принципа полного гомеостаза (конгруэнтности) между устными преданиями и их использованием в устных сообществах. Мы уже упоминали об этом в главе 10, говоря о причинах сомневаться в пра вильности подхода критики форм к еван гельским преданиям. Венсайна настаивает, что «между содержанием [устной тради ции] и актуальными проблемами существует некоторая взаимосвязь - но отнюдь не тотальная», и отмечает, что «присутствие в различных традициях архаизмов опровергает теорию гомеостаза» ¹. Иными словами, социальная память или устная традиция, конечно, связана с настоящим - однако это сложная и изменчивая взаимосвязь. Прошлое с настоящим ведут своего рода торг, полный компромиссов и взаимных уступок: прошлое в этой борьбе - голос, который хочет быть услышанным. Его нельзя просто выдумать по своему усмотрению.
Одна из ролей очевидцев в раннем христианстве состояла в том, чтобы дать этому голосу прозвучать в социальном контексте, где сообщество активно стремилось расслышать голос собственного прошлого - не ради прошлого как такового, но для того, что-
¹ Vansina, Oral Tradition, 121; см. также Byrskog, "A New Perspective," 468–69.
бы понять взаимоотношения настоящего с теми решающими событиями, которые не только создали групповую идентичность этого сообщества, но и принесли спасение миру. Разумеется, некое взаимовлияние памяти о прошлом и актуальных событий имело место уже в свидетельствах очевидцев - однако в ограниченном масштабе, учитывая «изолированный» характер евангельских преданий (см. главу 11). Во многом именно очевидцы представляли собой начало, сопротивляющееся «подгонке» коллективной памяти под актуальные нужды. Коллективная память или традиция в процессе своего развития осознала это сопротивление и признала его как неотъемлемую часть своего самосознания. Когда предания об Иисусе полностью перешли к общине и атрибуция преданий облегчила общине изобретение новых традиций, о котором говорили критики форм - предания продолжали атрибутироваться очевидцам, и это охраняло и неизменность. Индивидуальные воспоминания не теряли своей сути, растворяясь в коллективной памяти, - напротив, именно в коллективной памяти они сохраняли свою идентичность. Введение свидетельств очевидцев в Евангелия сохранило эту идентичность на тысячелетия. Вновь и вновь христиане открывают взаимосвязь истории Иисуса
с текущими обстоятельствами своей жизни - вновь и вновь прошлое встречается с настоящим. И в самих Евангелиях происходит эта встреча - встреча евангелистов с Иисусом, увиденным глазами очевидцев.
Места памяти
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ (КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ)
В англоязычной литературе, так же, как и в отечественной, мы встречаем чередование определений «социальная» / «коллективная» в одной и той же смысловой позиции. Иногда используется как синоним социальной памяти термин «социокультурная память» или «культурная память», хотя некоторые исследователи с этим не согласны и считают, что социальная память включает в себя как культурные (наработанные человечеством), так и внекультурные (генетически унаследованные) смыслы. Тогда на этом основании ставится водораздел между социальной и культурной памятью. Коллективную память не следует (как иногда делают) смешивать и с понятием исторической памяти, трактуемым довольно широко и неоднозначно, но в общем случае сводимому к неким типическим, устойчивым, сложившимся в данном социуме в данный исторический момент представлениям (образам) о том или ином явлении (или культуре целой эпохи).
Социальная, или коллективная память чаще всего трактуется как общий опыт, пережитый людьми совместно» (речь может идти и о памяти поколений), или как групповая память. Многие психологические исследования показывают, что граница между индивидуальным и коллективным в работе человеческой памяти размыта.
Термин «социальная память» иногда употребляется применительно к сфере социокультурных практик, охватывающей социальные мнемические процессы - в противоположность физиологическим (физиологическая память). Социальную память понимают как комплекс средств и механизмов, обеспечивающих мнемическую деятельность социума, т. е. позволяющих принимать, обрабатывать, хранить социальные смыслы, передаваемые из прошлого в настоящее - в результате актов исторической коммуникации. Существование социальной памяти объясняется необходимостью передачи культурного опыта, позволяющего обеспечить нормальное функционирование социума и избежать благодаря этому ряда деструктивных явлений. Коллективная память требует от социума определенной институализации наследия. В малых социальных группах такие институты могут принимать вид семейного архива, в больших социальных группах - архивохранилищ, музеев, мемориальных комплексов и культурных заповедников, архитектурно-скульптурных монументов и знаков, библиотек и Т. д.
Коллективная память, по М. Хальбваксу, - фактор, объединяющий группу, поддерживающий ее идентичность. Места, события, герои воплощают группу, обозначают ее сущность и специфику 1 . К ним необходимо более или менее регулярно обращаться для поддержания чувства солидарности и единства. М. Хальбвакс рассматривает функции памяти в различных социальных общностях, с которыми личность может себя идентифицировать (семья, социальный класс, религиозная группа, профессиональное сообщество). Важный для жизни коллектива опыт должен получить пространственно-временную фиксацию в «местах памяти» (календарь памятных дат, топография значимых мест, связанных с важными для самоидентификации группы лицами и событиями). Поддержание идентичности требует ощущения непрерывности истории. Коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодически проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Поэтому прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла бы себя узнать в ней на любом историческом этапе. Для этого исторические факты должны входить в культурную память группы, будучи выстроены в соответствии с принципами исторической преемственности, континуальности. Для этого возможно применение различных нарративных стратегий. А именно: апелляции к неизменным местам, пространствам, материальным объектам, памятникам и реликвиям, связь с которыми провозглашается для данной группы естественной, неразрывной и подлежащей постоянному поддержанию и восстановлению (в случае угрозы разрыва). История страны будет составляться таким образом, чтобы в ней не было «перерывов постепенности», чтобы это были «та же самая страна», «тот же самый народ» на разных исторических этапах.
Коллективная память о совместном прошлом - основа идентификации группы, выражение коллективного опыта, объединяющего группу, объясняющего ей смысл ее прошлого, причины нынешнего совместного бытия и определяющего надежды на будущее. Однако между памятью и идентичностью существуют отношения взаимозависимости. Не только идентичность укоренена в памяти, но и память зависит от присвоенной себе идентичности. Идентификация - одна из основных (наряду с легитимацией) функций коллективной памяти. Понятия памяти и идентичности неотделимы друг от друга. Любая идентичность, как индивидуальная, так и коллективная, связана с ощущением длящегося во времени бытия индивидуального или коллективного субъекта. Как на индивидуальном, так и на коллективном уровне расстройство памяти немедленно сказывается на самоидентификации. Манипуляции памятью являются одновременно и манипуляциями с идентичностью.
В этой связи важную роль в формировании коллективной памяти играет т. н. политика памяти (мемориальная политика), проводимая государственной властью, политическими партиями и общественными движениями. Однако современное видение сущности социальной памяти уходит от двух крайностей (А. Васильев). С одной стороны, от ее понимания как хранилища устойчивых, стабильных образов и сюжетов, которые «как ночной кошмар тяготеют над умами живых». С другой стороны, коллективная память не представляется уже и абсолютно пластичной, податливой к любым формам манипуляций и конструирования.
Для социальной памяти характерны «линзы», обладающие серьезным искажающим эффектом: во-первых, традиционализм, который исключает важнейшее понятие развития во времени (то, что делалось в прошлом, считается авторитетным руководством к действиям в настоящем); во-вторых, ностальгия, которая, не отрицая факта исторических перемен, толкует их только в негативном плане - как утрату «золотого века» и привычного образа жизни («мир, который мы потеряли»); и напротив, в-третьих, прогрессизм - «оптимистическое верование», подразумевающее «не только позитивный характер перемен в прошлом, но и продолжение процесса совершенствования в будущем» 2 . Л.П. Репина, размышляя о взаимодействии историка и социальной памяти, отмечает, что позиция историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна. С одной стороны, ставятся вопросы о важнейших этических проблемах исторической профессии, преодолении европоцентризма, «ориентализма» и мифов о национальной исключительности, подчеркивается недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и «инструментализации» в политических и каких-либо иных целях, а с другой стороны, активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием «травматического исторического опыта» 3 . Вместе с тем, подчеркивает исследовательница, социальная память не только обеспечивает набор категорий, посредством которых члены данной группы или социума неосознанно ориентируются в своем окружении, она является также источником знания, дающим материал для сознательной рефлексии и интерпретации транслируемых образов прошлого, культурных представлений и ценностей. Перед историком памяти стоит задача изучить, как и почему создаются традиции, а также объяснить, почему определенные традиции соответствовали памяти определенных групп, учитывая при этом общекультурный и интеллектуальный контекст конкретной эпохи, весь комплекс факторов, воздействовавших на интерпретацию и трансформацию образов «ключевых» событий.
Список литературы
1 См.: Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41) (Русский журнал: журнальный зал в РЖ, 1996 - 2013. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html); Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. - М.: Новое издательство, 2007. - 348 с.
2 Репина Память о прошлом и история Л. П. // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под редакцией Л. П. Репиной. - М.: Кругъ, 2008. - С. 15.
3 Там же. - С. 15-16.
Ron Eyerman. Cultural Trauma and Collective Memory
Рон Айерман (Йельский университет; профессор социологии кафедры социологии; содиректор Центра культурной социологии; PhD) [email protected].
УДК: 326+342.721+347.167.2+94
Аннотация:
В работе Рона Айермана рабство рассматривается не как институт или индивидуальный опыт, а как культурная / коллективная травма, отраженная в коллективной памяти, — т.е. как определенная форма воспоминания, которая лежит в основе человеческой идентичности. При этом понятие культурной травмы предполагает, что непосредственное переживание события не является обязательным условием для того, чтобы включить это событие в травму. Коллективная травма переживается спустя время и через воспоминания, и ключевая роль в этом процессе принадлежит репрезентации. То, как именно помнится событие, тесно переплетено с тем, как именно оно представлено. Поэтому так важны средства и способы репрезентации, поскольку они стирают границу между отдельными людь-ми и ликвидируют разрыв между происшестви-ем и воспоминанием о нем, создавая социальную основу для возникновения культурной травмы. Айерман задает концептуальные рамки для анализа интеллектуальных последствий рабства как разновидности культурной травмы и иллюстрирует этот анализ примерами из истории афроамериканской идентичности.
Ключевые слова: рабство, коллективная памя-ть, культурная (коллективная) травма, репрезентация, воспоминание, афроамериканская идентичность
Ron Eyerman (Yale University; professor of sociology, Sociology Department; co-director, Center for Cultural Sociology; PhD) [email protected].
UDC: 326+342.721+347.167.2+94
Abstract:
In this article, Eyerman examines slavery not as an institution or individual experience, but as cultural / collective trauma reflected in collective memory — i.e., as a form of recollection that lies at the foundation of human identity. Meanwhile, the concept of cultural trauma conjectures that immediate experience of an event is not necessary for this event to be included in trauma. Collective trauma is experienced after the fact and through recollection, and representation plays a crucial role in this process. The specific way an event is remembered is closely intertwined with how it is represented. This is why the means and methods of representation are so important, since they blur the boundary between indivi-duals and liquidate the rift between what happened and how it is recalled, creating a social foundation for the emergence of cultural trauma. Eyerman provides a conceptual framework for analyzing the intellectual consequences of slavery as a form of cultural trauma and illustrates this analysis with examples from the history of African-American identity.
Key words: slavery, collective memory, cultural (collective) trauma, representation, recollection, Afro-American identity
Утрачена была непрерывность прошлого <…>. То же, с чем мы остались, это все же прошлое, но прошлое уже фрагментированное , утратившее определенность оценок.
Ханна Арендт [Арендт 2013: 206—207]
Именно память подсчитывает, контролирует богатство и мастерство рассказа, приводит его в движение.
Хорхе Семпрун
Введение
В этой книге будет исследовано формирование афроамериканской идентичности сквозь призму теории культурной травмы . В данном случае «травмой» является рабство, но не как институт или даже опыт, а как коллективная память, форма воспоминания, которая лежит в основе человеческой идентичности. В этом отличие травмы как культурного процесса от той травмы, которая поражает отдельных людей. Травма как культурный процесс объединяет различные виды представлений и связана с изменением коллективной идентичности и переработкой коллективной памяти. Понятие уникальной афроамериканской идентичности возникло после Гражданской войны и отмены рабства . Поэтому травма принудительной неволи и почти полного подчинения воле и прихоти других — это не обязательно что-то, что многие объекты этого исследования испытали непосредственно на себе; но она стала ключевой, когда они попытались создать из воспоминаний коллективную идентичность. В этом смысле рабство травмировало ретроспективно, оно создало «первичную сцену», которая потенциально могла бы объединить всех афроамериканцев в Соединенных Штатах, были ли они сами при этом рабами или нет, осталось ли у них знание или переживание об Африке или нет. Рабство заложило основы для возникновения коллективной идентичности, оказывая влияние на формирующуюся тогда же коллективную память, которая определяет расу, нацию и сообщество в зависимости от заранее выбранного уровня абстракции или точки зрения. Этот коллективный дискурс и его репрезентация находятся в центре внимания в моей книге.
То, что рабство травматично, может показаться очевидным, и для тех, кто сам его пережил, это, разумеется, должно было быть именно так. Прослеживая в недавней работе последствия рабства в паттернах поведения современных афроамериканцев, Орландо Паттерсон пишет:
Другим признаком детства, проведенного в рабстве, была приобретенная психологическая травма от того, что они видели ежедневную деградацию своих ро-дителей в руках рабовладельцев. <…> К травме от наблюдения за унижением родите-лей позднее прибавилась еще одна, когда дети подросли и их начали на-сило-вать американцы европейского происхождения на плантациях и за их пределами .
Хотя такое употребление термина «травма» корректно, это не то, что я имею в виду. Понятие афроамериканской идентичности было сформулировано в XIX ве-ке позднее — это сделало поколение черных интеллектуалов, для кого рабство было явлением прошлого, а не настоящего. Афроамериканскую идентичность заложили память о рабстве и его отражения в речи и произведениях искусства, они же дали возможность его институционализировать в таких организациях, как созданная в 1909 году Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Если можно говорить о травме рабства для этого поколения интеллектуалов, то она была ретроспективной, опосредованной воспоминаниями и рефлексией, а для кого-то — и с оттенком стратегического и практического политического интереса.
В отличие от психологической или физической травмы, когда есть рана и опыт сильного эмоционального страдания отдельного человека, культурная травма означает драматичную утрату идентичности и смысла, прореху в ткани общества, которая воздействует на группу людей, достигших определенной степени сплоченности. В этом смысле не обязательно, чтобы травму ощущали все члены сообщества или непосредственно пережил бы хоть кто-то из них. Однако необходимо некое событие, которое бы стало значимой «причиной», и его травматический смысл должен быть утвержден и воспринят; этот процесс занимает время и требует опосредования и репрезентации. Артур Нил определяет «национальную травму» в соответствии с ее «долгосрочными последствиями» и связывает ее с событиями, «от которых непросто избавиться и которые будут вновь и вновь разыгрываться в сознании отдельного человека», «прочно укореняясь в коллективной памяти» . С этой точки зрения национальная травма должна быть понята, объяснена и непротиворечиво подана в публичном обсуждении и дискурсе. Поэтому ее представление в массмедиа играет решающую роль. Также важно понимать, чтó именно мы назвали культурной травмой. Нил Смелсер дает более формальное определение того, что это такое, и оно достойно того, чтобы его повторить: это «память, которую признала и которой оказывает публичное доверие релевантная группа, и вспоминание события или ситуации, (a) нагруженных негативным аффектом, (b) представленных как неизгладимые; (c) считающихся угрожающими существованию общества или нарушающими одну или больше из его фундаментальных культурных предпосылок» . К последней части можно добавить: «или угрожающими групповой идентичности». Именно коллективная память о рабстве определяет отдельного человека как «члена расы» (по выражению Майи Энджелоу ).
В психоаналитической теории травмы Кэти Карут травматический эффект производит не сам опыт, а скорее воспоминание о нем . По ее мнению, между событием и травматическим опытом всегда проходит про-межуток времени, «инкубационный» период (a period of «latency»), характерной чертой которого является забывание. Травма — рефлексивный процесс, связывающий прошлое с настоящим с помощью образов и воображения. По словам психологов, это может привести к формированию искаженной идентич-ности, когда «определенные субъектные позиции — например, жертвы или злоумышленника — могут особенно выступать вперед или даже преобладать. <...> При этом наблюдаются одержимость прошлым и стремление навязчиво повторять его, как будто оно все еще происходит здесь и сейчас» .
Учитывая центральную роль медиации и производимой воображением рекон-струкции, видимо, следует говорить не столько о травматических событиях, сколько о травматических аффектах . Поскольку трав-ма неиз-бежно отсылает к некому психоаналитическому переживанию, обозначение его как «травматического» нуждается в интерпретации. Национальная или культурная травма (на теоретическом уровне разница между ними минимальна) также укоренена в событии или серии событий, но не обязательно в их не-по-средственном переживании. Этот опыт обычно опосредован, на-пример газе-тами, радио и телевидением, что создает пространственно-временную дистан-цию между событием и его переживанием. Опыт, опосредованный средст-вами массмедиа, всегда предполагает избирательное конструирование и ре-пре-зентацию, поскольку то, что мы видим, — это результат действий и реше-ний профессионалов, что именно считать значимым и как это следует пока-зывать. Поэтому национальная или культурная травма всегда связана с «битвой смыслов», борьбой с событием, которая определяет «природу боли, природу жертвы и установление ответственности» . Джеффри Александер называет это «процессом травмы», когда коллективный опыт серьезных разрушений и социальных кризисов превращается в кризис смысла и идентичности. В таком процессе травмы ключевое значение имеют «группы-переносчики», которые формулируют требования и представляют интересы и ожидания «инфицированных» широкой публике. Здесь значимыми оказываются интеллектуалы в самом широком смысле этого слова . «Интеллектуал» в данном случае — социально сконструированная и исторически обусловленная роль, а не только структурно закрепленная позиция или персональный типаж. Это понятие, хоть и связано с отдельными людьми, отсылает скорее к тому, что они делают, а не к тому, кем они являются. Вообще, интеллектуалы служат посредниками между культурными и политическими сферами, характеризующими современные общества, не столько представляя свои собственные идеи и интересы, сколько выражая идеи другим и для других. Интеллектуалы — посредники и переводчики между разными сферами деятельности и социальными группами, находящимися в различных условиях, включая условия места и времени. Кинорежиссеры и певцы в этом смысле — такие же интеллектуалы, что и университетские профессора. К тому же социальные движения производят своих интеллектуалов, у которых формально может и не быть образования (что обычно ассоциируется со словом «интеллектуал»), но их роль в формулировании целей и ценностей движения позволяет называть их этим именем.
Как и в случае физической или психической травмы, создание дискурса вокруг культурной травмы — это процесс опосредования, включающий альтернативные стратегии и альтернативные голоса. Это процесс, цель которого — восстановить или перенастроить коллективную идентичность с помощью коллективного представления; это залатает прореху в ткани общества. Травма-тическая прореха вынуждает «рассказывать новые основания» , зано-во интерпретировать прошлое, чтобы примириться с потребностями настоящего и будущего. В конкретном историческом контексте может возникнуть несколько или много возможных реакций, путей решения проблемы культурной травмы, но все они так или иначе затрагивают идентичность и память. Слово «афроамериканцы», которое сегодня кажется более-менее очевидным и естественным, было одной из реакций на крах, который потерпела попытка полностью интегрировать бывших рабов и их потомков в американское общество, и на новый консенсус в доминантной культуре по поводу прошлого, где рабство изображалось милосердным и цивилизованным. Мысль о возвращении в Африку постоянно присутствовала среди черного населения почти что с тех пор, как первый невольничий корабль причалил к американскому берегу . Позднее возникла альтернативная идея другой эмиграции — не в Африку, а в Канзас и на Север, в Канаду или в свободные штаты. Такой сдвиг в 1800-е годы и последующие десятилетия мог и не исключать новую идентичность, скажем афроамериканскую, но и не обязательно включал ее в себя; тем не менее он открывал дорогу новым формам идентификации и попыткам отказаться от остальных форм .
Развитие того, что Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа описывал как «двойное сознание», одновременно африканское и американское, породило еще одну возможность, при которой преданность нации не предполагает преданности доминантной культуре или ее образу жизни. В 1897 году Дюбуа задал вопрос: «Кто я, в конце концов? Я американец или негр? Могу ли я быть ими обоими? Или мой долг — как можно скорее перестать быть негром и быть американцем?» . Хотя эта дилемма решается, интерпретация и репрезентация прошлого и утверждение коллективной памяти остаются центральными аспектами процесса культурной травмы. Смысл рабства был ключевым ориентиром. Схожий процесс происходил среди белых, и попытки черных вести дело с культурной травмой тесно переплелись с этим национальным проектом. К середине 1880-х Гражданская война превратилась в «цивилизованную войну», «пространство для частного примирения и одновременно для создания современной южной белой расы» . Как только новый нарратив о войне возрождал (re-membered) нацию, афроамериканцы сразу же оказывались невидимы и наказаны. В период Реконструкции, да и вообще, их представляли объектом ненависти, Другим, против которого вновь объединялись и примирялись противоборствовавшие в войну стороны. Рабство в памяти стало милосердным и цивилизованным, а проект белого человека мирил Север с Югом.
Коллективная память
История исследований памяти — это рассказ о поиске дара, поиске способа, которым мозг кодирует, хранит и восстанавливает информацию. Только благодаря недавнему интересу к языку и к культурным аспектам мышления возникло широкое представление о памяти как о чем-то, что люди делают вместе, напоминая себе и другим о переживаниях, которые они испытали сообща .
Обычно память представляют себе как что-то индивидуальное, что находится «в головах» отдельных людей. «У памяти три значения: ментальная способность восстановить сохраненную информацию и выполнить выученные ментальные операции, такие, как деление столбиком; семантическое, образное или сенсорное содержание воспоминаний; наконец, место , где эти воспоминания хранятся» . В теориях формирования идентичности или социализации память представляется частью развития себя, отдельной личности, и локализуется внутри отдельного индивида, чтобы осмыслять человеческие поступки и их эмоциональную подоплеку. С этой точки зрения прошлое становится настоящим с помощью телесных реакций частных людей, пока они живут своей жизнью. Память здесь помогает объяснить человеческое поведение. Согласно основанным на этой модели категориям коллективной идентичности, например в теории коллективного поведения, в результате учас-тия в разных видах общественной деятельности — таких, как социальные движения, — происходит «потеря себя» и обретение новых (собственно коллективных) идентичностей. В таких случаях память, раз уж она связана с биография-ми индивидуальных участников, теряет значение, потому что представляется барьером на пути коллективного поведения, нарушающего обычный порядок повседневной жизни. Как только барьер памяти преодолен, новая коллективная идентичность возникает sui generis, на основе коллектива, а не отдельной личности. Насколько известно, вопрос о том, может ли такой коллектив создать память, редко ставился в рамках этой теории .
Параллельно этому подходу, ориентированному на индивидуальную память, возникли другие, посвященные коллективной идентичности и тому, «как помнят общества» . Их исток — концепция массового сознания Дюркгейма. Здесь коллективная память определяется как воспоминания об общем прошлом, «разделяемые членами большой или малой группы, которая это пережила» . Эти воспоминания встраиваются в непрерывный процесс, который может быть назван коллективным поминовением, когда общее прошлое утверждают официально одобренные ритуалы, или в более локальные дискурсы отдельных групп. Такая социально сконструированная и исторически укорененная коллективная память работает на создание социальной солидарности здесь и сейчас. Последователи Дюркгейма, в частности Морис Хальбвакс, представляли коллективную память как надындивидуальную, а индивидуальную память — как связанную с группой, с ее географическими, локальными, идеологическими, политическими и поколенческими характеристиками . По классическому определению Хальбвакса, память всегда групповая — и потому, что индивид всегда производен от какого-либо коллектива, семьи и сообщества, и потому, что сама группа затвердевает и начинает осознавать себя, постоянно представляя себе и воссоздавая особую общую память. Частная идентичность производится в рамках этого коллективно разделяемого прошлого. Таким образом, хотя мы всегда имеем дело с уникальной, биографической памятью, но представлена она неизменно укорененной в общественной истории. Эта коллективная память задает индивиду когнитивную сетку координат, которая определяет его текущее поведение. В этой перспективе коллективная память социально необходима; ни индивид, ни общество не могут жить без нее. Как показывает Бернхард Гизен , коллективная память обеспечивает индивида и общество временны´ми ориентирами, унифицируя нацию или сообщество сквозь время и пространство. Она устанавливает временны´е параметры прошлого и будущего: откуда мы пришли, куда идем, почему мы сейчас находимся здесь. Она создает исторический нарратив, согласно которому индивидуальные идентичности приобретают форму эмпирических схем, порожденных рассказами о прошлом, настоящем и будущем и встроенных в них же .
Поворот социальных и гуманитарных наук к лингвистическому, ориентированному на текст анализу породил новые подходы к исследованию памяти. Например, в сравнительном литературоведении больше внимания стало уделяться важности коллективной памяти для формирования этнической идентичности и роли литературных произведений в этом процессе рефлексии. Культурный поворот сфокусировал внимание на когнитивных фреймах, языке и интертекстуальности, и память теперь локализовалась не в головах отдельных индивидов, а скорее «в дискурсе людей, говорящих между собой о прошлом» . Это направление восходит к лингвистическому и тек-сту-аль-ному анализу, который часто называют «постструктурализмом», а так-же к феминистской теории и практике. В 1970-е годы феминисты разработали технику «повышения сознательности» («consciousness-raising»), чтобы создавать политическую личность, теоретически осмыслять саморазвитие в политическом и символически структурированном социальном контексте. Вооруженные теориями социализации, где Маркс сочетался с Фрейдом (и иногда с Джорджем Гербертом Мидом), феминисты развивали методики освобождения индивидов от искаженной идентичности в обществе, где доминируют мужчины. Как и в вышеупомянутой теории коллективного поведения, с которой они разделяют многие теоретические предпосылки, некоторые феминисты видят в индивидуальной памяти барьер для коллективного политического действия. Одной из техник, разработанных феминистами после того, как феминистское движение ушло в академическую науку, стала «работа памяти» — способ вспомнить потускневшие или подавленные образы доминирования.
Более новое направление обращается к идее коллективной памяти как таковой. Редакторы книги, посвященной течениям литературной теории, определяют ее как «сочетание дискурсов о человеческом “я”: сексуальных, расовых, исторических, региональных, этнических, культурных, национальных, семейных, — которые пересекаются в индивиде» . Они образуют сетку языка, метанарратив, разделяемый сообществом и задающий рамки для индивидуальных биографий. Здесь Фуко и постструктурализм соединяются с дюркгеймианской традицией. Под коллективной памятью тут понимается результат взаимодействия, процесс коммуникации, в котором люди себя локализуют. Этот диалогический процесс — разновидность обмена между индивидами и коллективом. В нем нет ничего произвольного.
С такой точки зрения прошлое — это коллективно сформированный, если вообще не коллективно пережитый, временной ориентир, который скорее создает индивида, чем изменяется сам, чтобы соответствовать поколенческим или частным нуждам. Эта прибавка необходима, особенно если в ситуации замешана политика. Майкл Шадсон в ответ на то, что он называет «теорией интереса» в деле конструирования памяти (когда прошлое полностью подчиняется потребностям сегодняшнего дня), предлагает несколько вариантов того, как оно может сопротивляться тотальной манипуляции. Не последний из них — запись некоторых фрагментов прошлого, что обеспечит хоть какую-то степень объективности . Аналогично пишет Барри Шварц: «Ограниченное историческими записями, прошлое не может быть буквально сконструировано, его получается эксплуатировать лишь отчасти» . Тут полезно провести различие между коллективной памятью и историей. Если, как утверждает Хальбвакс, коллективная память всегда групповая, если это всегда продукт обмена и выборочных воспоминаний определенной группы, то она схожа с мифом . Фактически именно так рассуждает о ней и Нил в работе о национальной травме . С точки зрения хальбваксовской концепции «настоящего времени», группе необходима коллективная память, чтобы осмыслять саму себя, и, стало быть, эту память нужно постоянно подгонять под исторические обстоятельства. Если коллективная память отсылает к историческим событиям, то это события записанные, известные другим, и их смысл истолковывается в перспективе групповых потребностей и интересов — разумеется, в пределах дозволенного. История, особенно как профессия и академическая дисциплина, стремится к чему-то большему, более объективному и универсальному, чем групповая память. Конечно, она всегда пишется с чьей-то точки зрения и может быть более или менее этноцентричной, но когда мы говорим о ней как об академической дисциплине, пусть даже ограниченной национальными институциями, то ее цели и особенно правила аргументации будут иными, чем у коллективной памяти группы. Наконец, за этноцентризм профессиональные исторические оценки могут быть подвергнуты критике .
Вероятно, иллюстрацией к тому, что я имею в виду, может служить нечаянно подслушанный разговор между историком и жертвой Холокоста. Жертва воскрешала в воспоминаниях сотрудника пресловутой еврейской полиции в польском гетто. Он живо вспоминал свое личное впечатление от того человека. Историк обратил внимание, что этого не могло быть, поскольку тот полицейский именно в то время был в другом лагере, и это документально подтверждено. Человек, переживший Холокост, остался настроен скептически, однако — возможно, потому что он тоже ученый, — был готов рассмотреть это утверждение. Позднее этот историк, специализирующийся на зверствах типа Холокоста, рассказал, что часто сталкивается с проблемой различия между памятью и документированной историей.
Хотя внимание к языку и способам говорения сделало гораздо более свободным изучение коллективной памяти и идентичности, здесь были и свои ограничения. Согласно Алану Рэдли,
это движение <…> до сих пор не справляется с вопросами, связанными с вспоминанием мира вещей — как природных, так и продуктов культуры, — поскольку оно сконцентрировано на памяти как продукте дискурса. Повышенное внимание к языку скрывает интересные вопросы, и они встают, как только мы понимаем, что область материальных объектов управляется методами, на которые мы привыкли полагаться, потому что они дают нам чувство непрерывности, и которые маркируют временны´е изменения .
Другими словами, отношение к памяти как к символическому дискурсу влечет за собой недооценку или игнорирование влияния материальной культуры на память и идентичность. С точки зрения дискурсивного анализа объекты приобретают значение, только когда о них говорят. Рэдли показывает, что способ организации вещей, будь то обычные предметы из повседневной жизни, как обстановка комнаты, или преднамеренно выстроенные объекты в музее, пробуждает память и «чувство прошлого» в любом случае, выражен ли он в языке или нет. Воскресить память могут еда и предметы домашнего обихода, как в примерах из афроамериканской поваренной книги «Кукурузный пудинг и клубничное вино» («Spoonbread and Strawberry Wine»): «Форма для печенья тетушки Нормы, вязаный шерстяной платок тетушки Мод, старые пузырьки нашего отца (олицетворяющие почти шестидесятилетнюю медицинскую практику) — все это вызывало сильные и нежные воспоминания» . То же можно сказать и о других культурных артефактах, например о музыке и объектах искусства. Слушая какое-нибудь особенное музыкальное произведение или рассматривая картину, мы можем испытать сильный эмоциональный отклик, связанный с прошлым, формирующий личность и коллективную память. Память также может быть воплощена в физической географии. В автобиографической книге Майи Энджелоу есть яркое описание возвращения в маленькую южную деревеньку, где прошло ее детство:
Юг, куда я вернулась, <…> был бедняком, из настоящей плоти, со вздутым животом. Стэмпс, штат Арканзас, <…> кормился на доходы от хлопковых плантаций сотни лет, вплоть до Первой мировой войны, скрипящая лесопилка. Рельсы железной дороги, стремительная Ред-Ривер и расовые предубеждения делили городок на две половины. Белые жили на маленькой городской возвышенности (ее даже нельзя назвать холмом), а черные — в месте, которое еще со времен рабства было известно как «Кварталы» .
Как рассказывает Энджелоу в автобиографии, память о рабстве окраши-ва-ла почти все ее переживания, особенно в отношении белых. Крейг Бар-тон пока-зывает, как рабство материализуется в организации пространства и в памя-ти:
Как социальный конструкт или понятие, раса обладает значительным влиянием на пространство американского ландшафта, создавая раздельные, хотя и иногда параллельные, частично совпадающие и даже накладывающиеся один на другой, культурные ландшафты для черных и белых американцев. Места, которые их формируют, когда-то были «построены» политикой американского рабства, а впоследствии «спроектированы» обычаями, традициями и идеологией, берущей начало в решении Верховного суда по делу Плесси против Фергюсона — «раздельные, но равные», — и «законами Джима Кроу» XX века .
Но здесь очко в пользу постструктурализма: то, что фактический смысл ответа на вопрос, что все это «на самом деле» значит, обретает форму в языке и диалоге и может изменяться в зависимости от контекста. Хотя расположение материальных артефактов и способно вызывать «чувство прошлого» или что-то еще, однако, чтобы понять, чтó именно представляет собой это «чувство», нам нужно выразить его посредством языка.
Это ставит проблему репрезентации. Как должно быть представлено прошлое в настоящем — отдельным людям и, что важнее в этом контексте, коллективу и для коллектива? Если мы вспомним предыдущие аргументы, прошлое не только вспоминается и, соответственно, репрезентируется в языке, но и воскрешается, воображается через ассоциации с артефактами, некоторые из которых для этой цели систематизируются и получают обозначение. Если нарра-тив, «власть повествования», тесно связан с языком, со способностью и (что, наверно, более важно) с возможностью говорить, то репрезентация мо-жет быть названа «силой взгляда» («power of looking») и свя-зана со способностью видеть и возможностью быть видимым. Тогда цент-ральными становятся вопросы: кто и кому может говорить, кто может быть видимым? Эта проблема поднята в романе Ральфа Эллисона «Человек-не-видимка», где, согласно Бартону, «способность делать мир видимым и невидимым — это конкретная форма власти и элемент социального конструирования расы» .
Такие вопросы крайне важны для моего исследования. Как репрезенти-ровалось рабство, буквально и визуально, в чьих интересах и для каких целей? Какую роль играли бывшие рабы в этом процессе коллективного воспоминания через публичные репрезентации и играли ли вообще хоть какую-то? То, как рабство было представлено в литературе, музыке, пластических ис-кусствах и позднее в кино, — это ключевые моменты для формирования и переработки коллективной памяти и коллективной идентичности поколений, выросших после освобождения . Социальные движения создают контекст, в ко-тором отдельные индивидуальные биографии и, следовательно, память мож-но связать со всеми другими, слепить их в единую коллективную био-графию и, таким образом, превратить в политическую силу. Социальные движения зано-во включают в себя отдельных людей с помощью коллективных репрезентаций; они представляют коллектив и изображают индивида в двой-ном смысле, встраивая его в коллективную память и представляя его частью коллек-тива.
Место поколения в коллективной памяти
Но если коллективная память всегда зависит от группы и подчинена подгонке под исторически обусловленные потребности, то каковы те пространственные и временны´е параметры, которые маркируют этот процесс повторного интерпретирования? Границы памяти и коллективной идентичности групп столь же подвижны, как и они сами. Пространственные характеристики таких границ изменчивы, а с экспоненциальным развитием массмедиа они становятся еще более гибкими. Поначалу они могут совпадать со сравнительно определенными географическими границами, но при посредничестве репрезентации способны распространяться за их пределы, достигая изгнанников и эмигрантов. И наоборот, они могут отражать независимые от географии этнические и религиозные принципы, рассеянные на огромные дистанции. Хотя и у Карла Мангейма, и у Хальбвакса память вырастала из настоящих сообществ, образованных личными контактами, недавние исследования расширили это понятие, включив в него описанные Бенедиктом Андерсоном «воображаемые» сооб-щества [Андерсон 2001]. Это отчасти связано с ростом значимости электронных массмедиа и массовых миграций, объединенных зонтичным термином «глобализация». Хуан Хосе Игартуа и Дарио Паэс, исследуя символичес-кую реконструкцию Гражданской войны в Испании, замечают: «Коллективная идентичность не просто существует в отдельных людях, но на самом деле она локализована в культурных артефактах. Анализируя содержание произведений культуры, например кино, можно увидеть, как социальная группа символически реконструирует прошлое, чтобы противостоять травматическим событиям, за которые она несет ответственность» . Это значит, что коллективная память, создающая основу коллективной идентичности, может преодолевать множество пространственных ограничений, если она записана или представлена иными способами. Например, канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян в своих фильмах показывает, что геноцид армян 1915 года в воспоминаниях предстает событием, которое и создало армянскую коллективную идентичность. Сейчас армяне живут во всех уголках земного шара, однако коллективная память, которая образует их идентичность, очевидно, остается неизменной отчасти благодаря таким медиа, как кино, а также историям, которые сообщество рассказывает самому себе .
Временны´е параметры коллективной памяти оказываются чуть более постоянными. Их изучение породило представление о поколенческой основе памяти и забывания, от которой должна зависеть отладка интерпретаций прошлого . В подкрепленных опросами исследованиях, таких, как проведенное Говардом Шуманом и Жаклин Скотт , рассматривалось, действительно ли существуют особые явления, которые служат отличительными признаками поколений и объединяют действия отдельных людей посредством памяти. В работе Шумана и Скотт исследовались американцы после Второй мировой войны, и оказалось, что у тех, кто достиг совершеннолетия в течение войны во Вьетнаме, есть своя особая память об этом периоде, отличающая их от всех прочих. Другие исследования «травматических событий», например Гражданской войны в Испании , приводят к сходным результатам. Отталкиваясь от теории поколения Мангейма, авторы этих работ пытаются показать, что «приписывание важности национальным и мировым событиям последнего полувека, похоже, является функцией от того, были ли эти события пережиты в юности или ранней зрелости» . В оригинальной формулировке Мангейма, события, пережитые в юности, вероятнее всего, повлияют на дальнейшую жизнь и окажут воздействие на поведение человека. К тому же события, произошедшие в один и тот же момент времени, скорее всего, будут вспоминаться как схожие, что позволяет говорить о поколенческой памяти.
Из чего могла бы состоять поколенческая память, что могло бы ее производить и поддерживать? Мангейм оценивал ее очень оптимистично и позитивно, по крайней мере ее основную «функцию», до того как она наполнится историческими деталями. По его словам, функция поколенческой памяти заключается в «новом контакте» «с социальным и культурным наследием» социального порядка, который «помогает нам оценить наше достояние, учит нас отказываться от того, что более не нужно, и добиваться еще не достигнутого» [Мангейм 1998: 21—22]. Значит, коллективное забвение так же важно для самоосмысления общества, как и коллективное воспоминание; фактически роль юности или нового поколения — дать обществу по-новому взглянуть на себя. Помимо этой основной и в общем положительной роли, поколенческая память состоит из записи «значимых» событий, которые поколенческая группа сама пережила, и реакции на них. Как было сказано выше, Мангейм имел в виду непосредственный опыт. Позднейшие исследователи добавили опосредованные переживания, которые формируют поколение и сохраняют его целостность. Так, не все, кто жил в шестидесятые, принимали участие в социальных движениях, — многие смотрели их по телевизору. Наверно, у тех, кто сам участ-вовал, чувство принадлежности к «поколению шестидесятых» сильнее, но и те, кто переживал это по телевидению и был того же возраста, вероятно, тоже остро ощущали чувство принадлежности. Возникает вопрос: испытывали ли такое же чувство люди других возрастов, смотревшие то же ТВ, и где проходят границы между поколениями? В любом случае проблема роли массмедиа в производстве и укреплении поколенческой идентичности сейчас гораздо значительнее, чем во времена Мангейма .
Цикл (поколенческой) памяти
Понятие культурной травмы предполагает, что непосредственное переживание события не является обязательным условием для его включения в процесс травмы. Культурная травма переживается спустя время и через воспоминания, и ключевая роль в этом процессе принадлежит репрезентации. То, как именно помнится событие, тесно переплетено с тем, как именно оно представлено. Поэтому так важны средства и способы репрезентации, ведь они стирают границу между отдельными людьми и ликвидируют разрыв между происшествием и воспоминанием о нем. Социально-психологические исследования предоставляют основу для развития концепции поколенческих циклов в процессе реконструкции коллективной памяти и роли медиа.
Джеймс У. Пеннибейкер и Бекки Л. Банасик, проанализировав различные примеры, пришли к выводу, что примерно каждые двадцать или тридцать лет люди обращаются назад и реконструируют «травматическое» прошлое . Применяя такую оценку к исследованию памяти о Гражданской войне в Испании, Игартуа и Паэс перечисляют четыре фактора, лежащие в основе этого явления и помогающие объяснить поколенческий цикл:
1. Существование необходимой психологической дистанции, которой требует припоминание индивидом или коллективом травматического события. Время может смягчать и уменьшать боль, которую вызывает припоминание травматического события. 2. Необходимое накопление социальных ресурсов, чтобы организовывать мемориальные действия. Такие ресурсы обычно приобретаются в среднем возрасте. Память о событиях начинает чтиться, когда испытавшее их поколение накапливает деньги и власть, чтобы чтить их. 3. Самые важные события в жизни человека происходят в 12—25-летнем возрасте. Когда люди становят-ся старше, они могут помнить события, случившиеся в этот период. 4. Социально-политическая репрессия перестает действовать спустя 20—30 лет, потому что все, что прямо ответственно за нее, т.е. война и т.д., прекращает социальное или физическое существование .
Если мы оставим в стороне их предположение, что событие может быть травма-тическим само по себе, эта схема полезна для анализа коллективной памя-ти. Игартуа и Паэс подчеркивают различие между поколением, сплоченным на базе прямого переживания, и следующими поколениями, для которых память опосредована иными способами. Они указывают на проблему власти и доступа к средствам репрезентации, которые необходимы для публичных мемориальных действий и фреймирования коллективной памяти. Также они уделяют особое внимание роли искусства и вообще репрезентации в этом процессе.
Здесь уместно обсудить проблему репрезентации (representation), к которой мы еще будем обращаться в книге. Репрезентацию можно анализировать в нескольких аспектах. Под репрезентацией может иметься в виду представление (re-presenting) с помощью слов, визуальных образов или как-то иначе, где форма не менее — а то и более — важна, чем содержание; этот аспект можно назвать эстетическим. Хейден Уайт указывал, что форма сама может обладать содержанием . Репрезентация может относиться к политике, определяя, как группа людей может и должна быть представлена в государственном органе, таком, как парламент, и на любых иных публичных площадках или форумах — от массмедиа до музея. У репрезентации есть моральное измерение, затрагивающее и эстетический, и политический аспекты, когда поднимаются вопросы наподобие такого: «Как люди должны быть представлены?» Есть и когнитивное измерение, когда исключительные права на репрезентацию предъ-являют профессионалы искусств и наук — музейные кураторы, историки, разрабатывающие процедуры и признаки репрезентации и требующие специальных привилегий в отношении представляемого материала. Как и представительность, репрезентация может связываться с типами и образцами, как в сборнике эссе Ральфа Эмерсона «Представители человечества» (1850) или в идее Дюбуа об «одаренной десятой части» (talented tenth), где индивиды становятся выразителями всего «лучшего» в расе или цивилизации.
Сложные и запутанные проблемы репрезентации были ключевыми для афроамериканцев с самого начала работорговли и остаются таковыми до сих пор. Это уместнее всего назвать «борьбой за репрезентацию» . Афроамериканцы борются за то, чтобы их видели и слышали как равных, хотя социальные условия этому препятствуют. Эта борьба за репрезентацию проявляется в литературных, визуальных и более традиционных политических формах. Она воплощается в битве за то, чтобы быть увиденными и услышанными, и в вопросе о том, кто определяет критерии видимости и слышимости. Первые письменные свидетельства «из глубин культуры» были нарративами самих рабов — от «Повествования о необыкновенных страданиях и удивительном избавлении негра Брайтона Хэммона» (1760) до «Случаев из жизни девушки-рабыни, написанных ей самой» Гарриет Энн Джейкобс (1861) . Аболиционистское движение и связанная с ним пресса свободных афроамериканцев выступили важными медиаторами и кураторами этой репрезентации, что, как мы увидим в следующих главах, повлияло на способ представления.
Позднее появились живопись и другие формы визуальной репрезентации «изнутри». Открытые в период Реконструкции институции, которые сейчас называются черными колледжами и университетами, сыграли значимую роль в производстве, сохранении и показе работ афроамериканских художников. Эти школы и их коллекции стали ключевыми для обучения не только ученых и интеллектуалов, но и будущих живописцев. Музыка, особенно связанная с трудом и религией, была одним из немногих открыто доступных афроамериканцам способов культурного выражения, и важность ее как средства репрезентации должным образом признана — не в последнюю очередь благодаря черным интеллектуалам наподобие Дюбуа, которые после окончания Реконструкции искали основания для повествования о травматической афроамериканской коллективной идентичности. Дюбуа назвал бы их «песнями печали» («sorrow songs») рабов, воплотившими в себе память о рабстве и меч-ты об освобождении и распространившимися поверх поколенческих и гео-графических границ. Первый документальный фильм, снятый афроамериканцем, вышел в 1910 году и назывался «День в Таскиги» («A Day at Tuskegee»); он представлял типаж «нового негра» и был сделан по заказу Букера Т. Вашингтона. С 1920-х годов роль афроамериканских режиссеров и музыкальных продюсеров продолжала расти, тем более что рост городского населения и улучшающиеся условия жизни породили искушенную аудиторию «расовых» фильмов и аудиозаписей.
Хотя эти репрезентации и были сделаны самими афроамериканцами, но проблема, чьи же голос и образ в них представлены, оставалась нерешенной. Черное «сообщество» всегда было разнородным, даже несмотря на то, что принудительное подчинение и угнетение игнорировали любые различия внутри него. Дискуссии о том, что следует считать «правильной» репрезентацией, как и о способах и направлениях освобождения, были многочисленными и бурными, особенно в городском публичном пространстве, возникшем благодаря Великой миграции афроамериканцев в первой четверти XX века. В результате отмены рабства и миграции в города возможность какого-то единственного варианта определения и объединения черного «сообщества», единой для всех репрезентации была утрачена: «С этих пор больше нет одного неизменного черного сообщества, “бремя представления” подразумевает различные точки зрения, различающуюся степень объективности и субъективности, конкурирующие факты и вымыслы» . Разные голоса требовали, чтобы их услышали и заметили, хотя репрезентация все еще была тесно связана с подчинением и мечтами об освобождении. Возникла ситуация, когда репрезентация превратилась в ответственность и в «бремя»; она не могла быть просто формой личного выражения, поскольку с точки зрения доминантной культуры черный художник оставался навсегда «черным».
Работа с культурной травмой может вызвать сочленение коллективной идентичности и коллективной памяти, когда индивидуальные истории сливаются воедино в формах и процессах коллективной репрезентации. Коллективная идентичность относится к процессу формирования категории «мы», — процессу, имеющему исторические корни и укорененному в истории . Хотя реконструированное общее и коллективное прошлое и может восходить к непосредственному опыту, но воспоминание о нем опосредовано нарративами, изменяющимися с течением времени и испытывающими воздействие культурных артефактов и других материальных форм, которые представляют прошлое в настоящем. Неважно, испытали ли они сами опыт рабства и даже пережили ли его их предки, — афроамериканцев в США определяют через память о рабстве и его репрезентацию, и так же они определяют сами себя. Это не изолированный или внутренне контролируемый процесс — он происходит во взаимодействии с доминантной культурой и под ее влиянием. Историческая память о Гражданской войне реконструировалась в течение последующих десятилетий, и черная кожа стала ассоциироваться с рабством и подчинением. Общая национальная история была переписана и представлена в виде памяти, исконно передаваемой по наследству, и в виде групп, появляющихся во имя защитной необходимости и / или коллективной солидарности. В этом смысле рабство травмирует всех тех, кто разделяет общую судьбу, — переживать общий опыт необязательно. Культурная травма задает членство в группе, которая объединена событием или опытом, воссоздает первичную сцену, укрепляющую индивидуальную и коллективную идентичность. Это событие, отныне связанное с созданием группы, должны вспоминать другие поколения, не переживавшие лично «подлинного» события, но продолжающие определяться им и определять самих себя с его помощью. Благодаря временнóй дистанции и социальным обстоятельствам, которые изменились за этот срок, каждое следующее поколение заново интерпретирует и представляет коллективную память об этом событии в соответствии со своими нуждами и средствами. Однако этот процесс реконструкции ограничен доступными ресурсами и давлением, которые история оказывает на память.
Поколенческие сдвиги, о которых пишут Пеннибейкер и другие, можно сказать, организуют во времени формирование коллективной памяти, связывая с ней групповую память, а ее саму — с публичной. Разумеется, группы — публичное явление, но память отдельной группы необязательно должна быть публичной, т.е. официально признанной или чтимой. Если коллективная память укоренена в потенциально травматическом событии, которое, по определению, болезненное и в то же время открытое для разного рода оценивания, то переход от групповой памяти к публичной займет целое поколение, иногда даже дольше, а подчас такого перехода вообще никогда не происходит. Приме-ром служит американское рабство. Айра Берлин во введении к книге «Remembering Slavery» замечает, что о рабстве в Соединенных Штатах помнят по-разному в зависимости от того, в какой период времени, в рамках какой расовой группы и в каком регионе это случается. Он пишет:
Северяне, великой ценой одержавшие победу в [Гражданской] войне, встроили аболиционистскую точку зрения в свое понимание американской нации: рабст-во — зло, огромное пятно, которое необходимо смыть, чтобы обещания Декларации независимости можно было полностью воплотить в жизнь. Поначалу этот взгляд приняли даже некоторые белые южане — в том числе бывшие рабовладельцы, — признав, что рабство легло тяжким бременем и на Юг, и на нацию, и объявив, что готовы от него отказаться. Но в течение второй половины XX века провалились попытки реконструировать нацию на основе равенства, стали раздаваться требования постепенного примирения, и изображение рабства изменилось. Белые северяне и белые южане начали описывать рабство как неопасную и даже благотворную институцию, что перекликалось с плантаторскими лозунгами защиты довоенного порядка. <…> Эти взгляды, популяризированные в рассказах Джоэля Чандлера Харриса и в песнях Стивена Фостера, распространились в течение первой трети XX столетия .
История визуальных репрезентаций была не менее долгой. Альберт Бойми в исследовании «визуального кодирования иерархии и исключения» показывает, как «ввели в действие знаковую систему» , которая наращивала количество письменных и устных оправданий рабства. Белые художники XIX века писали картины, на которых укреплялась вера в «счастливое рабство», довольное собственной неволей. В популярной культуре музыкальных исполнений белые актеры с покрашенными в черный цвет лицами пародировали на сцене афроамериканские диалект и поведение. Американская культура была пропитана словами, звуками и образами, в которых «само собой разумелось», будто рабство оправданно, необходимо и полезно для всех, а в то же время существовало противоположное течение, которое «помнило» нечто совсем иное.
В пику попыткам восстановить память о рабстве ради чьих-то частных интересов появились воспоминания бывших рабов. Их передавали устно, в рассказах и песнях, и на письме, в рабских нарративах, которые сейчас многими высоко оцениваются как истоки особой афроамериканской культуры. После отмены рабства эти голоса стали значимыми и сильными, но все равно продолжали считаться, по крайней мере поначалу, чем-то второстепенным по сравнению с оптимистической надеждой на объединение. Афроамериканцев после Гражданской войны объединила не рефлексия над общим прошлым, а ориентация на будущее. Когда поколение бывших рабов стало умирать, голоса прямого свидетельствования начали исчезать. Уже в 1867 году группа заинтересованных коллекционеров писала о песнях, которые они подготовили к публикации: «Публика того и гляди забудет эти неподдельные песни рабов, а с ними — и ту созидательную силу, которая дала им начало…» К 1880-м годам мечты о полноценном гражданстве и культурной интеграции разбились, и рабство начало обозначать пространство конфликта идентичности, наиболее ясно сформулированного новым активным и предприимчивым поколением образованных афроамериканцев. Через различные медиа и в разных формах репрезентации черные художники и писатели реконструировали рабство как первичную сцену афроамериканской идентичности. В рамках этой идентичности рабство стало формировать основу черного «сообщества» не как институция или пережитый опыт, а как точка отсчета в общем прошлом. Однако это был не единственный источник воскрешенных воспоминаний. Перед лицом репрессивной, часто ожесточенной реакции белых южан многие черные бежали с Юга, как только закончился период Реконструкции. Одной из главных причин их миграции был страх, что рабство вновь возродится . Рабство в памяти превратилось в травму отторжения, а сама эта память заново собрала всех в группу (re-membered a group). Другими словами, рабство стало определять и саму группу, и членство в ней. Именно в таком контексте вспоминания о рабстве оформились в культурную травму .
Как говорилось выше, афроамериканская идея — один из результатов этой борьбы за идентичность. Важно помнить, что понятие «афроамериканец» — не естественная категория, а исторически сформированная коллективная идентичность, которая в первую очередь требует произнесения, а затем — принятия теми, кого она призвана объединить. В этой постройке идентичности ключевыми становятся воспоминания о рабстве — не столько как индивидуальное переживание, сколько как коллективная память. Именно рабство определяет идентичность человека как афроамериканскую, именно из-за него африканец находится в Америке, и неважно, пережил ли он рабство на своем собственном опыте или нет. И именно в рамках этой идентичности непосредственное переживание и самоидентификация себя как «бывшего раба» или «дочери рабов» начинает функционировать и становится общедоступна в виде коллективной и общей памяти, объединяющей все черное население Соединенных Штатов. Эту категоризацию применили к себе сами ее носители, в отличие от той, которую налагало на них доминантное белое общество, и в противовес ей. В этом смысле память афроамериканцев о рабстве является тем, что Фуко называл «контрпамятью» .
Здесь пролегает четкая граница между тем, как черные и белые понимают общество и историю. В контексте пересказа смысла Гражданской войны «белые» и «черные» представали ясно различимыми социальными группами со сложной, но общей историей. Белые, невзирая на то, какая судьба забросила их на Север или на Юг, разделяли европейские культурные ценности, позднее определенные как элемент европейской цивилизации, в то время как черные принадлежали Африке и «нецивилизованному миру». Если некоторые белые осуждали рабство как порочную институцию и оплакивали его влияние на политическое тело американского общества, то черные смотрели на него как на социальное условие, переживание, порождающее определенный образ жизни, культуру, общество и, соответственно, идентичность, влияющую не только на прошлое и настоящее, но и на возможные сценарии будущего. После Реконструкции между коллективной памятью реконструированного меньшинства и не менее реконструированной доминантной группы, контролировавшей ресурсы и имевшей власть для создания публичной памяти, образовалась пропасть. Правда, даже в этой ситуации различия между регионами, Севером и Югом, победившими и проигравшими в войне, которую можно назвать первой модерной войной, порождали конфликтующие способы публичного увековечения и публичных воспоминаний. Обе стороны делали акцент на Гражданской войне самой по себе как травматическом событии национальной истории и сторонились опыта рабства — конечно, не считая того, что Север славил себя как освободителя, а Юг впадал в патерналистский романтизм. Но каждая сторона предлагала свою интерпретацию, свои церемонии и ритуалы, чтобы официально и публично отмечать память этого события.
Были и некоторые несогласные голоса, особенно среди либералов и радикалов на Севере. Кирк Сэвидж цитирует очень влиятельную среди северян точку зрения выдающегося американского критика Уильяма Дина Хоуэллса, который в 1866 году на страницах «Atlantic Monthly» призывал, чтя память войны, помнить прежде всего не о солдатах и битвах, а о том, за какие идеалы и идеи шло это кровопролитие. Точку зрения Хоуэллса следует считать особым мнением; он говорил, что «идеи самой войны — организованное насилие и разрушение — не годятся для представления» . В качестве альтернативы он указывал на Освобожденного — скульптурное изображение освобожденного черного раба, изваянное в 1863 году, — как на «полное выражение той идеи, память которой нужно чтить» . Стоит ли говорить, что это предложение не было воплощено в жизнь. Вместо этого каждая сторона — и Север, и Юг — воздвигла монументы своим солдатам на полях битв, на которых они пали. Анализируя эти монументы, Сэвидж пишет: «Такие проблемы, как рабство, были в лучшем случае второстепенными в программе локального увековечения, заполненной историями христианской отва-ги и другими героическими деяниями…» . В том же контексте «белые» и «черные» были реконструированы как универсальные категории, превосходящие региональные различия. С изъятием рабства из этой картины возникала возможность примирения противоборствующих сторон, каждой из которых было разрешено награждать своих собственных героев; таким образом, игнорировалась одна из главных причин войны. Наконец, «увековечение и примирение — два диаметрально противоположных после Гражданской войны социальных процесса — в конечном счете слились в общей, хоть и замаскированной, расовой политике» .
Не обладая средствами повлиять на публичную память, афроамериканцы были вынуждены создать и поддерживать свою собственную коллективную память, а рабство предстало постоянно изменяющейся реконструированной контрольной точкой. Рабство имело разные значения для разных поколений афроамериканцев, но всегда оставалось ориентиром. Вплоть до 1950-х или даже 1960-х годов оно не выходило за пределы групповой памяти, не вторгалось в границы, ритуалы и места публичной памяти. Лишь недавно среди афроамериканцев стало популярно воздвижение памятников, потому что, хотя Прокламация об освобождении рабов и дала им воображаемое юридическое пространство конституционных прав, лишь спустя столетие движения за гражданские права создали доступ к физическим пространствам нации — школам, гостиницам и публичным институтам. Сегодня «черное наследие», как его называют, раздулось в многомиллионную туристическую индустрию. Города, исторические организации и группы граждан определяют места действия ключевых событий борьбы за равенство и предпринимают меры по сохранению домов, в которых жили выдающиеся люди, и зданий, в которых размещались важные институты . И снова именно социальное движение — движение за гражданские права — разбередило рану и помогло превратить групповую культурную травму в национальную. С тех пор и только с тех самых пор рабство стало частью американской коллективной памяти, а не просто одни-м из ее компонентов. В начале этого века значение, увековечение и репрезентация рабства продолжают вызывать эмоционально заряженный отклик. Обозревая новейшую американскую историческую литературу по рабству в США, Джордж Фредриксон пишет: «Спустя 135 лет после его отмены рабство все еще остается скелетом в американском шкафу. Среди афроамериканских потомков его жертв существует разница во мнениях: нужно ли память о нем подавлять как неприятную и угнетающую или почитать так же, как евреи помнят Холокост. Нет ни одного национального музея рабства, и любая попытка основать его будет спорной» . В то время как многих черных американцев может разделять отношение к идее увековечения воспоминаний о рабстве, белые жители США, как показывает Фредриксон, не видят смысла в том, чтобы принять ответственность за него или его последствия для афроамериканцев.
Наряду с повествовательными структурами, которые на правах «усвоенной моральной силы» наделяют коллективную память смыслом и порядком, категория освобождения стала составной частью афроамериканской традиции. После неудачи с воплощением в жизнь обещаний, данных в Прокламации об освобождении рабов, афроамериканцы начали искать свои собственные пути к нему. Здесь можно выделить три отдельных моде-ли. Первая следовала идеалам, заложенным в знаменитой речи Авраама Линкольна, — просвещенческим понятиям индивидуальной автономии и человеческого достоинства, а также правам на полноценное гражданство, га-рантированным законом; эти принципы вдохновляли Французскую и Американскую революции. Эта модель наиболее тесно связана с прогрессивным нарративом. Она поддерживала и борьбу за гражданские права, которая началась сразу с окончанием Реконструкции, для того чтобы решить проблему общест-венного транспорта и ввести законодательство, запрещающее суды Линча, и борьбу за более официальное право на политическое представительство, которого афроамериканцы лишились в результате политических чисток конца 1870-х. В контексте культурной травмы эта борьба за индивидуальную автономию была по необходимости коллективной, поскольку «черным» была навязана идентичность отличия, особенно на Юге. Эта модель освобождения была институционализирована в лице Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и других организаций.
Вторая модель освобождения была вдохновлена антиколониальными и нацио-налистическими течениями, такими, как ирландское или сионистское, а позднее также национально-освободительными движениями в Африке. Эти движения выработали образцы культурного и политического национализма, призванного преодолеть маргинальность и подчинение. Третья модель — эмиграция, коллективное прощание, форма политического национализма, совмещающая освобождение с обладанием территорией, обретением национального / расового дома. Она очевиднее всего связана с трагическим нарративом спасения.
У каждой из этих моделей освобождения был запас различных стратегий по их реализации. Модель полноценного гражданства подразумевала длительную борьбу в судах, сбор доказательств, накапливание судебных решений по конкретным делам и изменение законодательства. Тактика этого варьировалась от непрямого воздействия до прямого агрессивного противоборства, но всегда предполагала использование и изменение местных законов, чтобы достичь полных и равных гарантий для черных. Модель национального или расового освобождения предполагала стратегию расовой идентификации, солидарность и уход, как в рабочем движении. Согласно ей, афроамериканцы должны были осознавать себя как группу в положительном смысле, а не прос-то как жертв белой дискриминации и атрибуции. Важнейшими для этой страте-гии были программы самопомощи — от кооперативов производителей и потребителей до основания расово однородных зон на экономических, политических и религиозных принципах в разных сочетаниях. Тактика здесь включала как моральную убежденность, так и физическую угрозу и применение силы — и внутри группы, для принуждения к солидарности, и вовне, для противостояния доминантному «белому» обществу. Модель эмиграции была самой ясно определенной: это объединение, возвращение «расы» из изгнания и обретение родины, хотя местонахождение последней определялось по-разному. Эти стратегии сильно влияли на культурную практику — т.е. на процесс формирования коллективной идентичности — тех социальных движений, которые составляли их основу.
В этом процессе непрерывности и изменений в реакциях афроамериканцев на культурную травму неудачи их освобождения есть опознаваемые поколенческие черты. Хотя я использую понятие поколения скорее в социальном, чем в биологическом, смысле, в этой книге я наметил несколько отдельных периодов времени, воспользовавшись удобным принципом распределения по декадам. Тем не менее я вывожу это понятие из социологической теории [Мангейм 1998; Eyerman, Turner 1998], для чего необходимо соблюдать ряд условий помимо биологического возраста и даты рождения. Мое «поколение» — это в первую очередь коллективная память, объединяющая людей в возрастную группу . В этом смысле первое «поколение» возникло на рубеже веков после окончания периода Реконструкции. Это поколение дало выражение культурной травме и начало формулировать ответы на нее, включая возрождение коллективной памяти. Второе «поколение» появилось в конце Первой мировой войны на гребне первых волн миграции. Именно тогда, в 1920-е годы были созданы два доминирующих нарративных шаблона, а коллективная память была значимым образом переформулирована. Третье «поколение» обрело фор-му во время Второй мировой войны и сразу после нее под влиянием новых волн миграции в города и в контексте Американского мира — Pax Americana — и общества потребления, причем оно тоже сильно видоизменило коллективную память. Из такого разброса по времени видно, что дата рождения не играет большой роли для определения поколения. Скорее мы видим сближение социальных сил и появление социальных движений, ключевых для формирования коллективного сознания, которое создает поколение в моем смысле. Поколение — не просто аналог осознания того, что люди, рожденные в одно время, разделяют между собой схожий опыт переживания значимых событий; оно также требует значительной коллективной деятельности, которая одновременно воплотит в себе это осознание, претворит его в жизнь и изменит коллективную память. Прошлое в таком контексте интерпретируется заново, чтобы задать координаты настоящему и будущему.
Помимо теории культурной травмы, в этой книге для анализа материала будет также использоваться теоретическая рамка, заимствованная из теории социальных движений, особенно в русле когнитивного подхода, разработанного мной в соавторстве с Эндрю Джеймисоном . Здесь важна идея, что выражение коллективной идентичности — главная задача и даже определяющая характеристика социальных движений; эта идея заключена в понятии когнитивной практики (cognitive praxis). Этот термин будет использоваться для описания роли социальных движений в реконструкции коллективной идентичности и в трансформации коллективной памяти у афроамериканцев. Когнитивная практика относится к процессу выражения и оформления идентичности, в котором главную роль играют интеллектуалы — как традиционалисты, так и идеологи движения. Для современного анализа социальных движений центральными являются термин «фрейм» и процесс «фреймирования». Этот термин, восходящий к Ирвингу Гофману [Гофман 2004] и к европейской феноменологии, имеет несколько коннотаций. Он отсылает к явлению, с помощью которого одни аспекты реальности выдвигаются на первый план, а другие затушевываются или забываются. Это выглядит как рамка (frame) вокруг картины . Фрейм также относится к структурированию истории, когда какие-то события тоже подчеркиваются и обретают смысл. Я использую понятие «нарративный фрейм» в обоих этих смыслах. Помимо когнитивного акцента на фреймировании, я также буду обсуждать роль социальных движений в становлении коллективного субъекта через коллективные представления. Это представления разного рода, и одним из них будет самая общая политическая разновидность, когда одни люди представляют других, выступают и говорят от их имени. Здесь ключевыми фигурами будут интеллектуалы — идеологи движений и лидеры. Другой вид представлений связан с коллективной памятью и репрезентацией общего прошлого. В контексте диалога, в котором они создаются, социальные движения помогают сплетению индивидуальных историй и биографий в коллективный, унифицированный фрейм, коллективный нарратив. Неотъемлемая часть этого процесса коллективной идентичности или образования воли — объединение разрозненных переживаний прошлого и настоящего в единство. Главную роль тут играют социальные движения, причем не только на уровне отдельных людей, но и на организационном уровне социальных взаимодействий. Такие институции, как афроамериканская церковь, и такие культурные артефакты, как блюз, способны воплощать коллективные воспоминания и передавать их из поколения в поколение, но только благодаря социальным движениям эти разнообразные воспоминания обретают единообразное направление, связывая индивидов и коллективы в объединенный субъект с общим будущим и общим прошлым.
Пер. с англ. Николая Поселягина
Библиография / References
[Андерсон 2001] — Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
(Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)
[Арендт 2013] — Арендт Х. Жизнь ума / Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Наука, 2013.
(Arendt H. The Life of the Mind. Vol. 1—2. Saint Petersburg, 2013. — In Russ.)
[Гофман 2004] — Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опы-та / Пер. с англ. Р.Е. Бумагина и др. М.: Институт социологии РАН; Институт фонда «Общественное мнение», 2004.
(Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Moscow, 2004. — In Russ.)
[Малиновский 2004] — Малиновский Б. Миф в первобытной психологии / Пер. с англ. В.Г. Николаева // Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры / Сост. Л.А. Мостовой; пер. с англ. под ред. А.Н. Кожановского. М.: РОССПЭН, 2004. С. 285—334.
(Malinowski B. Myth in Primitive Psychology // Malinowski B. Izbrannoe: Dinamika kul’tury / Ed. by L.A. Mostova. Moscow, 2004. P. 285—334. — In Russ.)
[Мангейм 1998] — Мангейм К. Проблема поколений / Пер. с англ. В.А. Плунгяна и А.Ю. Урманчиевой // НЛО. 1998. № 30. С. 7—47.
(Mannheim K. The Problem of Generations // NLO. 1998. № 30. P. 7—47. — In Russ.)
— Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001.
— Alexander J., Smith Ph. The Strong Program in Cultural Theory: Elements of a Structural Hermeneutics // Handbook of Sociological Theory / Ed. by J. Turner. New York: Kluwer Academic, 2001. P. 135—150.
— Allen W., Ware Ch., Garrison L. Slave Songs of the United States. Bedford: Applewood Books, 1867.
— Angelou M. Gather Together in My Name. New York: Bantam Books, 1974.
— Angelou M. Singin’ and Swingin’ and Gettin’ Merry Like Christmas. New York: Bantam Books, 1976.
— Sites of Memory / Ed. by C. Barton. New York: Princeton Architectural Press, 2001.
— Benhabib S. The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. London: Sage, 1996.
— Berlin I. Many Thousands Gone. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.
— Boime A. The Art of Exclusion. Wa-shington: Smithsonian Institution Press, 1990.
— Trauma Exploration in Memory / Ed. by C. Caruth. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
— Caruth C. Unclaimed Experience. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
— Connerton P. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
— Darden N.J., Darden C. Spoonbread and Strawberry Wine. New York: Doubleday, 1994.
— Du Bois W.E.B. The Conservation of Races: // The Oxford W.E.B. Du Bois Reader / Ed. by E.J. Sundquist. New York; Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 38—47.
— Erikson K. Everything in Its Path. New York: Simon and Schuster, 1994.
— Essien-Udom E.U. Black Nationalism. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
— Eyerman R. Between Culture and Politics. Cambridge: Polity Press, 1994.
— Eyerman R. Cultural Trauma: Sla-very and the Formation of African American Identity // Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 60—111.
— Eyerman R., Jamison A. Social Movements: A Cognitive Approach. Cambridge: Polity Press, 1991.
— Eyerman R., Jamison A. Music and Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
— Eyerman R., Turner B. Out-line of a Theory of Generations // Europe-an Journal of Social Theory. 1998. Vol. 1. № 1. P. 91—106.
— Fredrickson G. The Skeleton in the Closet // New York Review of Books. 2000. Vol. 47. № 17. P. 61—66.
— Giesen B. The Trauma of Perpetrators: The Holocaust as the Traumatic Reference of German National Identity // Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 112—154.
— Halbwachs M. On Collective Me-mory. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
— Hale G. Making Whiteness. New York: Vintage, 1998.
— Harris M. The Rise of Gospel Blues. New York; Oxford: Oxford University Press, 1992.
— Harris J.B. The Welcome Table: African American Heritage Cooking. New York: Simon and Schuster, 1995.
— Higginbotham E. Righteous Discontent. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.
— Hoffman E. : No-vick P. The Holocaust in American Life. Bos-ton: Hough-ton Mifflin, 1999 // New York Review of Books. 2000. Vol. 47. № 4. P. 19; № 10. P. 78—79.
— Huyssen A. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // Public Culture. 2000. Vol. 2. № 30. P. 21—38.
— Igartua H., Paez I. Art and Remembering Traumatic Collective Events: The Case of the Spanish Civil War // Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives / Ed. by J.W. Pennebaker, D. Paez, and B. Rimé. Mahwah, N.J.: Lawren-ce Erlbaum Associates, 1997. P. 79—102.
— Struggles for Representation: African American Documentary Film and Video / Ed. by Ph.R. Klotman and J.K. Cutler. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
— LaCapra D. Representing the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
— Melucci A. The Process of Collective Identity // Social Movements and Culture / Ed. by H. Johnston and B. Klandermans. London; New York: Routledge, 1995. P. 41—63.
— Moses W. The Golden Age of Black Nationalism. Hamden, Conn.: Archon Books, 1978.
— Neal A. National Trauma and Collective Memory. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1998.
— Nichols B. Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1994.
— Novick P. The Holocaust in American Life. Boston: Houghton Mifflin, 1999.
— Painter N. Exodusters. New York: Norton, 1976.
— Patterson O. Rituals of Blood. Washington, D.C.: Civitas, 1998.
— Pennebaker J.W., Ba-nasik B.L. On the Creation and Maintenance of Collective Memories: History as Social Psychology // Collective Memory of Political Events: So-cial Psychological Perspectives / Ed. by J.W. Pennebaker, D. Paez, and B. Rimé. Mah-wah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. P. 3—20.
— Radley A. Artefacts, Memory and a Sense of the Past // Collective Remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London: Sage, 1990. P. 46—59.
— Redkey E. Black Exodus. New Haven: Yale University Press, 1969.
— Revisioning History: Film and the Construction of a New Past / Ed. by R.A. Rosenstone. Princeton: Princeton University Press, 1995.
— Savage K. The Politics of Memory: Black Emancipation and the Civil War Monument // Commemorations / Ed. by J. Gillis. Princeton: Princeton University Press, 1994.
— Schudson M. The Present in the Past versus the Past in the Present // Communication. 1989. Vol. 11. P. 105—113.
— Schuman H., Belli R., Bischoping K. The Generational Basis of Historical Knowledge // Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives / Ed. by J.W. Pennebaker, D. Paez, and B. Rimé. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. P. 47—78.
— Schuman H., Scott J. Generations and Collective Memory // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. P. 359—381.
— Schwartz B. The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory // Social Forces. 1982. Vol. 61. № 2. P. 374—397.
— Semprun J. Literature or Life. New York: Penguin, 1997.
— Memory, Narrative and Identity / Ed. by A. Singh, J. Skerrett, Jr., and R. Hogan. Boston: Northeastern University Press, 1994.
— Siraganian L. “Is This My Mother’s Grave?”: Genocide and Diaspora in Atom Egoyan’s Family Viewing // Diaspora. 1997. Vol. 6. № 2. P. 127—154.
— Smelser N.J. Psychological Trauma and Cultural Trauma // Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 31—59.
— Snow D.A., Rochford E.B., Jr., Worden S.K., Benford R.D. Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation // American Sociological Review. 1986. Vol. 51. P. 464—481.
— Sztompka P. The Trauma of Soci-al Change: A Case of Postcommunist Societies // Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Iden-t-ity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2004. P. 155—195.
— White H. The Content of the Form. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
— Woodard K. A Nation within a Nation. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999.
— Young A. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton: Princeton University Press, 1995.
* Текст печатается по изданию: Eyerman R. Cultural Trauma and Collective Memory // Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 1—22. Публикуется с согласия правообладателя Cambridge University Press. Последний абзац главы, в котором вкратце описано, чему посвящены остальные части книги, здесь не приводится.